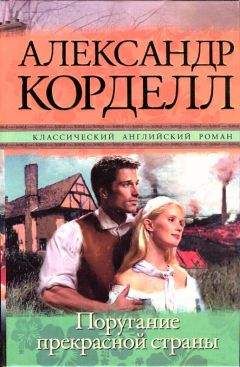— Доброе утро, — сказал я и сел. — Откуда это ты взялась?
Она не ответила. С ужасом в глазах она наклонилась, схватила платье, натянула его на себя и попятилась, закрыв руками лицо.
— А я тут задремал, — сказал я. — У тебя очень легкий шаг — обычно я просыпаюсь от малейшего звука. Если ты пришла сюда купаться, я уйду.
В платье она казалась меньше ростом. Платье было все рваное, с обтрепанным подолом, вместо пояса она затянула его веревкой. В глазах ее был страх; лицо побледнело, пальцы дрожали так, что она никак не могла завязать узел.
— Не бойся, — сказал я. — У меня есть сестры, и мы часто приходим сюда и купаемся без ничего. Я отвернусь, а ты надевай все остальное.
Я отвернулся и стал глядеть на луга, а сзади она одевалась, задыхаясь от спешки. За все это время она не сказала ни слова.
— Откуда ты? — спросил я, не оборачиваясь и пытаясь припомнить, где я ее раньше видел.
— Из Ньюпорта, — ответила она.
— Босиком?
— Да. Когда я вышла, у меня были башмаки, но к Понтипулу они разорвались, а в Ллановере совсем развалились.
— Тебя на ярмарке продали? — спросил я, полуобернувшись к ней.
— Да, — ответила она уже более спокойным голосом, и я все вспомнил. Это ее купил фермер вместе с маленьким Дэви Льюисом в тот день, когда мы ездили в Ньюпорт на ярмарку.
— И ты убежала? — спросил я, поворачиваясь к ней.
Она завязывала волосы выцветшей лентой, убирая с лица мокрые пряди. У нее были большие темные глаза и яркие губы, как у девушек-ирландок.
— Да, — проговорила она, опустив голову. — Работала, как каторжная, спала со свиньями, да еще хозяин стал ко мне приставать, вот я и решила убежать в горы, где делают железо и честным женщинам платят деньги.
— За работу? — спросил я.
— Ну конечно, — ответила она. — За что же еще?
— Есть хочешь?
— Хочу, — сказала она. — Очень. Но я ищу работу.
Она подняла ногу. Ступня была в крови.
— Я ела ягоды, но у меня так болят ноги, что далеко я не уйду.
— Сначала надо поесть, — сказал я. — Потом займемся ногами. Любишь форель, зажаренную на вертеле?
Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего.
— Ее тут много, да как ее поймаешь?
— Пошли со мной, — усмехнулся я. — Которые поглупее, забираются на деревья.
Я повел ее вверх по реке.
Надо было видеть ее лицо, когда я сбросил форель с дерева, выпотрошил ее ножом на камне, надел на прут и пристроил на двух палочках над костром. Она глядела, как я развожу огонь, не шевелясь, не произнося ни слова, но когда я обжарил рыбу с обеих сторон и положил перед ней, она проглотила слюну.
— Готово, — сказал я. — Я сейчас вернусь, а ты пока займись ею.
Я дал ей нож.
Будь я последней букашкой под ногами, она обратила бы на меня не больше внимания — ее глаза были прикованы к камню, на котором лежала, словно только что со сковородки, золотистая рыба. А я нашел укромное местечко в кустах, снял рубашку и оторвал от нее рукава. Когда я вернулся, от форели и следа не осталось.
— Садись, — сказал я. — Теперь займемся ногами. — И я опустился рядом с ней на колени, держа в руках рукава от рубашки. Теперь я за нее отвечал. Если оставить ее на произвол судьбы, она кончит в ирландской лачуге и будет днем отдавать свое тело богатому хозяину, а ночью бедному.
Тут ее глаза заблестели, закапали слезы, и она начала плакать, зажав рот кулаком.
— Ну вот, этого еще не хватало, — прикрикнул я на нее. — Ложись-ка на спину, я тебе перевяжу ноги, а потом отведу к себе домой, и мать тебя знатно накормит.
Я забинтовал ей ноги, и на белом полотне, выстиранном руками матери, появились кровавые пятна.
— Как тебя зовут? — спросила она, когда я покончил с одной ногой.
— Йестин Мортимер, а тебя?
— Мари Дирион.
— Имя вроде уэльское, но выговор у тебя северный.
— Отец у меня был англичанин, а мать из Суонси, но они оба умерли. Я шла на юг, с голоду чуть не умерла и решила на ньюпортской ярмарке наняться в батрачки.
Я кивнул, но мысли мои были заняты другим. Скоро все пойдут в молельню и сюда явится полевой сторож. Я завязал последний узел и протянул ей руку.
— Пошли, — сказал я, помогая ей взобраться по крутому берегу.
Держась за руки, мы перешли канал, поднялись в гору, спустились с той стороны и прошли по поселку: повсюду открывались двери, отодвигались занавески на окнах — Господи Иисусе, гляньте, с кем это Йестин Мортимер! Зеваки на перекрестках перешептывались между собой, но при нашем приближении мужчины снимали шапки, а женщины приседали, и я мог гордиться своим поселком, встречавшим незнакомую девушку вежливо и дружелюбно. Возле нашего дома стояла тележка Снелла. Отец громовым басом поторапливал Джетро, а Эдвина, вся в лентах и кружевах, вертелась перед крыльцом. Завидев нас с Мари у задней калитки, мать вышла нам навстречу — глаза как плошки.
— Боже милостивый! — ахнула она. — Ты ее что, в речке выловил? — При этих словах Мари улыбнулась. — Откуда ты, милая? Твоя знакомая, Йестин?
Даже не глянула на рваное платье и на завязанные ноги.
— Ее зовут Мари Дирион, — объяснил я. — Ее продали в батрачки в Ньюпорте, а она убежала. И уже несколько дней не ела.
— Мама! — воскликнула Эдвина, прижимая к груди Библию. — Уже звонят. Если мы будем тебя ждать, мы опоздаем в молельню.
— Намного опоздаем, — добавил Снелл, переминаясь с ноги на ногу.
— Поезжайте тогда без меня и задайте дьяволу хорошую трепку, — замахала руками мать. — Тут ребенок умирает с голоду. Бог, которому я молюсь, никуда не денется. Хайвел, ступай живо в сарай, надо сколотить еще одну кровать. А ты, Йестин, беги к Томосу Трахерну, скажи, что у нас в гостях девочка, которая убежала от хозяев, спроси, как там по закону, можем мы оставить ее у себя?
— Ладно, — отозвался я и бросился бежать со всех ног.
— Пойдем, девочка, — сказал отец и повел Мари Дирион в дом.
Надвигалась буря. Ею пахло в воздухе, о ней говорили в пивных, ее раскаты слышались на собраниях в горах. Мертер бурлил под властью Крошей Бейли; в Риске, Тредигаре, Доулейсе и Нантигло нарастал зловещий шепот, у нас в поселке было не лучше. Рабочие тратили по нескольку часов на то, что можно было сделать в несколько секунд, и без конца составляли резолюции протеста, которые никогда не доходили до хозяев, застревая у посредников.
Отец запретил мне бывать в Нантигло, потому что там жила Морфид, а все уже знали, что она открыто сожительствует с Ричардом Беннетом. Наверно, поэтому же в доме никогда не упоминали ее имени, даже в день ее рождения. Странные люди родители: не разрешают говорить о любимой дочери, а сами накрывают для нее прибор за столом; не разрешают сходить к ней, а сами ставят в ее комнату цветы.