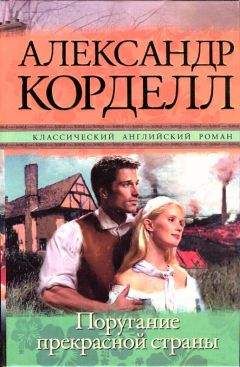Отец запретил мне бывать в Нантигло, потому что там жила Морфид, а все уже знали, что она открыто сожительствует с Ричардом Беннетом. Наверно, поэтому же в доме никогда не упоминали ее имени, даже в день ее рождения. Странные люди родители: не разрешают говорить о любимой дочери, а сами накрывают для нее прибор за столом; не разрешают сходить к ней, а сами ставят в ее комнату цветы.
Прошло уже несколько месяцев, как Морфид ушла из дому. Она пробыла с нами всю стачку, нанимаясь мыть полы в Гильверне, чтобы хоть как-то поддержать семью, но ушла, как только стачка кончилась. Да так было и лучше — они с отцом совсем перегрызлись из-за политики. Те две недели, что Мари прожила у нас, потеря Морфид не так чувствовалась, но в доме все опять пошло вверх дном, когда Томос Трахерн отвел Мари в Нантигло, где он устроил ее служанкой к жене еврея-мебельщика Солли Уиддла.
Соседи шептались, что Морфид живет в греховной связи с Беннетом. Чтоб вашей ноги не было в Нантигло — заявил нам отец.
В воскресенье после обеда надеваю лучшую куртку и брюки, отглаженные так, что складкой можно бриться, смачиваю и приглаживаю волосы, начищаю башмаки до ослепительного блеска и засовываю в петлицу целый свадебный букет.
Я влюбился. К черту правила и запреты.
Влюбился в Мари Дирион из Кармартена, где родился ее дед, и наплевать мне на ее английских родичей.
С замирающим сердцем я ушел из дому и поднялся по склону Койти, расцвеченному ранними летними цветами; ветер с Брекон-Биконс шевелил вереск и прокатывался волнами по папоротникам. На вершине я остановился. Пели жаворонки, утро дышало такой радостью и чистотой, что я на всю жизнь запомнил это воскресенье. Ветер был ласков, а обычно он свирепствует наверху, принося серные газы и золу из печей Нантигло и оголяя деревья раньше положенного срока: обрушится на них с налета, пригнет к земле в одну сторону, потом подождет, пока они выпрямятся, и пригнет в другую. Вот и нам так же достается, подумал я: заводчики калечат людей, морят их голодом и платят им лишь столько, чтобы могло народиться новое поколение, с которым они будут обращаться точно так же.
Здесь, на самой вершине Койти, я увидел Томоса Трахерна — странное место для проповедника. Он стоял на коленях, опустив голову, его лысина сияла на солнце, и ветер завивал его бороду колечками.
— Добрый день, Томос, — сказал я. — Что ты здесь делаешь?
— Призываю проклятия на головы заводчиков, — ответил он, — на Крошей в Кифартфе, на Гестов в Доулейсе и Бейли в Нантигло.
— Хочешь, я тебе в этом помогу? — предложил я.
— Нет, не надо, — отозвался он, — хотя во мне и закипает кровь, когда я стою на вершине Койти и гляжу на эту язву на теле земли — Нантигло. Когда-то красивее его не было места на земле, а сейчас, милостью английских дьяволов, тут пепелище. Нет, Йестин, — сказал он, вставая и оборачиваясь ко мне; его изборожденное морщинами лицо было исполнено доброты и покоя. — Я просто вышел погулять и воздавал хвалу Всевышнему за этот дивный день, за то, что он не оставляет милостью наш поселок.
— Да, — сказал я. — Благодарение Богу, что наш поселок не Кифартфа, где Крошей морят людей голодом, а красномундирники убивают их и вешают.
Его профиль, словно выточенный из гранита, был исполнен воли и целеустремленности. Он глядел, прищурившись от солнца, на дым из труб Нантигло, несущийся клубами по небесной синеве, и казалось, он стоит здесь много поколений, второй Моисей с Заветом в руках, великан, у чьих ног лежат осколки каменных скрижалей, которые он разбил, потому что люди были порочны и злы.
— Хочешь, вместе помолимся о покарании угнетателей? — спросил он.
— Давай, если только это поможет.
— Становись на колени, — приказал он, и мы опустились на колени. Вереск оживал под набегавшими порывами ветра, разносившего сладкий аромат. — Господь карающий! — яростно воскликнул Томос. — Внемли двум своим детям! Мы взываем к тебе о справедливости, о которой говорит пророк Аввакум в твоей священной книге! Глава вторая. Открой наугад, Йестин, и начинай первый, и пусть слово Божье звучит как набат.
Я дал ветру перелистать несколько страниц и стал читать:
— «Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою…»
— «Надменный человек, как бродящее вино, — подхватил Томос, — не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и, как смерть, он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена…»
— Стих седьмой, — воскликнул я. — «Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, — и ты достанешься им на расхищение?»
— «Так как ты ограбил многие народы, — кричал Томос, — то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем!»
Мы умолкли. Вздыхал ветер.
— Услышь же свое слово, Господи, — прошептал Томос, дрожа с головы до ног, — и спаси свой страждущий народ от алчных и криводушных, как сын твой спас род человеческий!
— Аминь, — сказал я и помог ему подняться. Мы стояли на вершине под жаркими лучами солнца.
— Посмотри, — сурово сказал он. — Видишь этот нарыв — Нанти, эту черную яму, что когда-то была моим домом, Йестин? Попомни мои слова: близок день, когда этот поселок и все заводские поселки в наших горах отомстят за себя. Вспыхнут факелы, содрогнутся кафедры церквей, богачи побегут из этой страны, и трон Англии зашатается под натиском искалеченных и обожженных. То, что случилось во Франции, может случиться и здесь. Человеческому долготерпению есть предел. Сверкнут мечи, загремят выстрелы, польется кровь…
— Но цель союза — мирные переговоры, — перебил я.
— Вот как? — спросил он, с насмешкой глядя на меня. — А кто говорит о союзах? Нечего объяснять мне, что такое союзы, — я на своем веку всего перевидал. Людей, работающих под угрозой кнута, поднимают на борьбу не организации, а идеалы, а союз — это просто другое название для сброда, раздираемого разногласиями. Вы кричите о переговорах, но для переговоров нужны две стороны, а во всех наших горах не найдешь заводчика, который станет вести переговоры с «немытыми». Так что нам остается лишь сила, — сила, за которой стоят идеалы. Как еще добьешься ты справедливости, когда за кнутом стоят солдаты гарнизона, а законы страны попираются в угоду богатым? Да, Йестин, ценою крови. Страшен будет день расплаты, много прольется слез, и горек будет плач детей над могилами отцов, и я молю Бога, чтобы, когда придет этот день, мои кости уже тлели в могиле.
Его слова потрясли меня.
— Смотри, — воскликнул он, — смотри на город, перепоясывающий чресла свои для битвы, смотри на язву на теле земли. Смотри на Кум-Крахен!