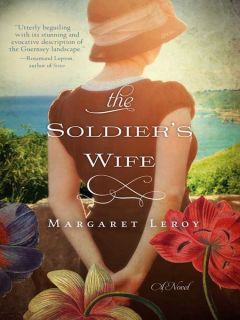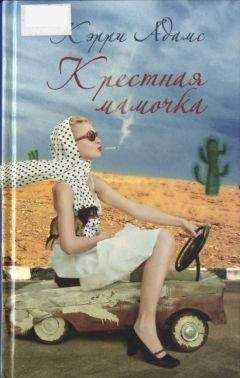Пока рагу медленно кипит, я иду в кладовку за оставшимися кусочками кекса из фасолевой муки.
— О, нет.
Тарелка пуста.
— Что такое, мам? — встревоженно спрашивает Бланш.
На какое-то мгновение меня охватывает страх, что я теряю разум: путаюсь, как Эвелин, и забываю, что делала.
— Мне казалось, что у нас оставалось немного кекса. Я знаю, что оставалось, — отвечаю я.
В моем голосе слышится злость. Внезапно я ощущаю прилив жалости к себе, а глаза наполняются горячими слезами. Я так стараюсь, так много работаю. И вот такое. Я понимаю, что этот резкий бессильный гнев из-за вечного недоедания и усталости, и стараюсь избавиться от него.
Бланш настороженно смотрит на меня, она боится, что я стану винить ее.
— Мам, ты же знаешь, что это не я, да? Ты знаешь, я никогда бы так не сделала.
— Я тебя не виню.
— Я знаю, что мы должны быть бережливы из-за войны и прочего, — говорит она. — Я знаю, что мы не можем просто есть все, что захотим.
— Бланш, я правда верю, что это не ты. Просто странно, вот и все. Я не понимаю.
Услышав наши напряженные голоса, в комнату проскальзывает Милли.
— В чем дело, мамочка?
Ее глазки широко раскрыты от любопытства.
— Фасолевый кекс. Он пропал, — говорю я.
— Но он же никому не понравился, — отвечает она. — Почему ты так расстроена?
— Я просто не понимаю, что случилось.
У меня мелькает мысль, уж не Милли ли это? Но ей действительно не понравился кекс. Потом мне в голову приходит, что в дом мог кто-то забраться. Тот, кто забрался сюда в тот далекий день, когда мы чуть не уплыли, — Берни Дори или кто-то еще — вернулся и обчистил нашу кладовку. Но я понимаю, что это безумное предположение. В наш дом никто не забирался. Потому что ничего больше не пропало.
Иду по дороге к Ле Рут. Стоит томный августовский денек. Сонные луга, залиты солнцем, воздух наполнен смесью ароматов, и во всех садах, мимо которых я прохожу, карнавал разноцветья. На короткий миг я забываю о войне.
Мы с Энжи расположились на складных стульях на улице, недалеко от двери в кухню. Теплый бриз ласкает нашу кожу и ерошит листья бузины, ветви которой потяжелели от ягод, черных и манящих, как лакричные конфеты. Интересно, будет ли Энжи собирать их для вина, как она делала раньше, когда был жив Фрэнк. Но, возможно, у нее не осталось сил, и она оставит их, пока сами не опадут.
Энжи держит в руках корзинку с вязанием.
— Вивьен, поможешь мне смотать эту шерсть в клубки? — спрашивает она.
Я протягиваю руки вперед, а она надевает на них моток пряжи и начинает умело и ровно сматывать клубок. В кронах шепчущихся вязов вокруг фермы лесные голуби лениво поют свои песни.
Во взгляде Энжи появляется новое выражение, скрытное и отчужденное.
— Ты выглядишь какой-то притихшей, Энжи, — нерешительно начинаю я.
Она улыбается, коротко и печально.
— А ты многое замечаешь, Вивьен. Ты права… я думаю кое о чем. О том, что мне рассказал Джек.
Меня охватывает дурное предчувствие.
— Он все еще работает на Олдерни? — спрашиваю я.
Она слышит неловкость в моем голосе, но неправильно ее истолковывает, думая, что я не одобряю Джека.
— За это хорошо платят, Вивьен, вот в чем дело. Ты не должна его винить.
— Конечно, я понимаю. Я не виню его, Энжи.
— Некоторые говорят, что ему не следует этого делать. Из-за этого у него много проблем с людьми, которые считают, что могут указывать другим, как себя вести.
— Люди любят искать виноватых, — отвечаю я.
На секунду она перестает мотать шерсть и держит клубок в руке так, словно это что-то хрупкое, нуждающееся в защите. Я опускаю руки, потому что они начинают болеть. Когда она снова говорит, ее голос хриплый и приглушенный, мне приходится немного наклониться к ней, чтобы расслышать. Легкое движение воздуха заставляет листья бузины задрожать.
— Они отправили Джека нырять в гавани, — рассказывает она. — У них там, в гавани Олдерни, заграждение против подводных лодок. Джек сказал, что оно похоже на большую сеть. Она запуталась, и Джеку нужно было с этим разобраться. Он мастер на все руки. Он хорошо ныряет, наш Джек…
Ее лицо очень близко к моему, теплое дыхание касается моей кожи.
— Он сказал, что в воде полно костей. Костей и гниющих трупов. Он сказал, что теперь не может спать.
Меня пронизывает ледяная дрожь. Я молчу.
— Этих несчастных убивают. Их бьют, или, может, они умирают от работы — ужасной работы, которую их заставляют делать, — и сбрасывают в гавань. Там кругом смерть, говорит Джек, смерть и кости. Сплошные скелеты и трупы, которые объедают крабы и омары. По ночам он не в состоянии сомкнуть глаза, чтобы не видеть эти кости.
Оставшуюся шерсть мы сматываем в тишине.
Джонни приходит навестить меня, приносит мешок картошки и немного клеверного меда от Гвен, а я показываю ему свой сад. Он задерживается около загона для кур и критически оглядывает птиц.
Он указывает на одну из кур, которая притаилась в углу, выглядит вялой и ничего не ест.
— Да, я заметила.
— Похоже, остальные ее заклевали, — говорит он. — Они ее забьют, тетя. Куры могут быть очень жестокими. Вам нужно поторопиться. Если хотите, я сам это сделаю.
— Спасибо, Джонни. Я знаю, что сделаешь. Но я собиралась сама. Помнишь, ты однажды сказал мне? Мы делаем то, что должны.
Он морщит нос, когда улыбается.
— О, тетя, я впечатлен. Не знал, что вы такая.
Я счастлива от его слов: мне нравится впечатлять Джонни.
Я вручаю ему банку с консервированными сливами для Гвен, и он уезжает, опасно вихляя, так что стеклянная банка громыхает в одной из корзин, подвешенных к багажнику его велосипеда.
Я выбираю время, когда Милли гуляет: не хочу, чтобы она видела. Поймать курицу оказывается непросто. Мне не нравится, как ощущается ее прикосновение к коже, мягкое, как перышко, и одновременно колючее. Каждый раз, когда я уверена, что поймала ее, она улетает из моих рук, словно предчувствует грозящую ей участь.
Остальные курицы кудахчут и создают какофонию звуков. Наконец я загоняю ее в угол. Держу курицу левой рукой, а правой сжимаю ее голову. Я закрываю глаза, и слышу хруст костей. Она продолжает бить крыльями даже после того, как ее шея сломана. Я ощущаю легкий приступ тошноты и сглатываю. В конце концов курица затихает и безвольно повисает в моих руках.
Позже я ощипываю и потрошу ее, как меня учила Энжи, и чувствую молчаливое удовлетворение от того, что научилась это делать.