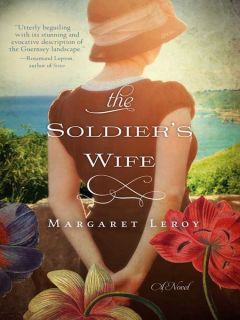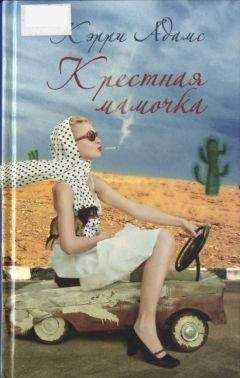Я зажариваю курицу с картошкой, которую принес Джонни.
— М-м-м, — говорит Бланш, когда приходит с работы. — Какой запах. Очень вкусно пахнет.
— Сегодня вечером у нас настоящий ужин, — отвечаю я.
Она понимающе усмехается:
— Рапунцель? Она выглядела довольно слабой.
— Боюсь, что так.
— Не беспокойся, я не скажу Милли. Я знаю, что она не любит есть то, что носит имя.
Я добавляю на сковороду немного оставшейся фасолевой муки, чтобы загустить соус и получить вкусную темную подливу. Накрываю стол по всем правилам: салфетки в серебряных кольцах и наши лучшие фарфоровые тарелки. Приношу курицу. Аромат сочного мяса висит в воздухе, как благословение, и наполняет наши рты слюной.
— Вот, Эвелин. Хорошее жаркое на ужин, как ты и хотела, — говорю я.
Но Эвелин сурово смотрит на меня. Ее губы неодобрительно поджаты.
— Почему ты забиваешь птицу, Вивьен? Это мужское дело.
— Когда нет мужчины, это становится женским делом.
Недовольство мелькает на ее лице и исчезает, мимолетное, как струйка дыма.
— Мам, нужно произнести молитву, — говорит Бланш.
Поэтому я прошу Эвелин прочитать молитву, и она откашливается, довольная, что ее попросили.
— Господи, благослови нас и эти дары… — Она запинается, ее лицо затуманивается. Девочки присоединяются и помогают ей закончить молитву. Пусть Господь сделает нас действительно благодарными.
У нас счастливый ужин, полный смеха и болтовни, как в Рождество, как на праздник. Такое прекрасное чувство насыщения: тот вид спокойствия, который приходит, только когда живот наполнен.
Эвелин удовлетворенно кладет свой нож на тарелку. Ее губы блестят от жира, она чинно промокает их салфеткой.
— Нам надо почаще делать курицу. Почему мы не делаем курицу чаще, Вивьен? — спрашивает она.
— Идет война, помнишь?
— Ох, — отвечает она. — Ох. Правда, Вивьен?
Когда Эвелин уходит к себе в комнату, я убираю со стола. Ставлю остатки курицы в шкафчик для продуктов. Из кусочков мяса я приготовлю хорошее сытное рагу, а кости прокипячу с луком и шалфеем и сделаю наваристый суп. Так хорошо знать, что мы будем есть в следующий раз.
Я сижу в гостиной с корзиной для штопки. Сегодня Бланш осталась дома, у нее в руках один из журналов Селесты. Она листает страницы с нарядами, разглядывая фотографии блестящих, высокомерных женщин, страстно желая такие же атласные перчатки с защипами и кокетливые шляпки с вуалью.
— Смотри, мам. Такое красивое…
Это вечернее платье от Скиапарелли, экстравагантное, с открытой спиной, ласково прилегающее к бедрам и расширяющееся к низу. Я рассказываю Бланш историю о Скиапарелли, которую когда-то слышала, — о том, как она сделала шляпу в виде птичьей клетки с канарейками внутри.
Бланш хихикает.
— Мам, ты меня разыгрываешь.
— Нет. Это правда, уверяю тебя.
На полу Милли, стоя на коленях, играет в кукольный домик. Золотистый вечерний свет льется в нашу комнату, наполненную запахом лаванды, к которому примешивается насыщенный, тягучий аромат роз, растущих под окном
Неожиданно во мне расцветает гордость, словно цветок в теплых лучах солнца, — гордость за то, чего я достигла: моя семья накормлена и в безопасности, мои девочки еще улыбаются. Я думаю: «Мы живы. Каким-то образом, несмотря ни на что, мы справляемся».
Милли деловито расставляет кукол по комнатам.
— Я снова видела призрака, — объявляет она ни с того ни с сего. Слова падают в тишине комнаты, как галька в пруд, порождая круги на его неподвижной поверхности. — Призраки очень-очень страшные.
Ее головка опущена, и волосы свободно падают вперед, затеняя лицо.
Бланш шумно выдыхает.
— Ради Бога. Только не это.
— Страшные, да, — говорит Милли.
Бланш поднимает брови. Милли понимает, что та не воспринимает ее слова всерьез.
— Страшные, — повторяет она.
Она возится с одной из кукол, пытаясь заставить ее стоять, но кукла все время падает. Милли недовольна. Она швыряет куклу на пол.
Я встаю на колени рядом с ней и беру ее голову в ладони, стараясь завладеть ее вниманием. Ее личико очень близко к моему. Я вижу золотистые искорки в ее темных глазах.
— Милли, никаких призраков нет. Призраков не существует. Тебе нечего бояться.
— Но я не боюсь. Я ничего не боюсь. Мне уже шесть лет, и я не боюсь даже темноты. — Она ускользает у меня из рук, как вода. — Призраки очень-очень страшные, но я совсем не боюсь. А ты испугалась бы, — говорит она Бланш.
Бланш пожимает плечами. Она листает журнал, продолжая грезить о шелковых корсажах и мерцающих пастельных платьях.
— Призраки белые и жуткие, и они очень-очень грустные, — говорит Милли.
— С чего бы это им быть грустными? — устало спрашивает Бланш.
— Конечно, они грустные. Потому что они мертвые, — отвечает Милли.
— Конечно. Как же я не догадалась.
— Бланш, не провоцируй ее, — велю я.
— Они очень тихо ходят, — говорит Милли. — Они бесшумно крадутся, и их прихода совсем не слышно.
Она встает и на цыпочках идет по комнате, вытянув вперед руки и шевеля пальцами, изображая призрака. Бланш картинно вздыхает и возвращается к своему журналу. Милли останавливается за спинкой стула Бланш и начинает зловещим шепотом:
— Они подходят все ближе и ближе, а потом…
— У-у-у-у! — кричит она прямо в ухо Бланш. Та подпрыгивает и роняет журнал, хотя она, должно быть, предвидела это.
— Милли, ради Бога. — Она злится на сестру за то, что та ее испугала. — Хватит с меня твоих дурацких призраков. Повзрослей, ясно?
Милли не обращает на нее внимания. Она с серьезным видом возвращается к кукольному домику — сама невинность.
— Мам, ты должна с ней поговорить. Она невыносима, — жалуется Бланш.
— Я же говорила, что ты испугаешься, — самодовольно говорит Милли.
* * *
Когда следующим днем я заглядываю в шкаф для продуктов, куска курицы нет.
Меня охватывает бессильный гнев. Я думаю обо всех усилиях, которые предприняла, чтобы приготовить это блюдо: вырастила курицу, кормила ее, заставила себя свернуть ей шею, ощипать и выпотрошить ее — думаю обо всем, чему научилась, чтобы у меня получилась сытная еда. А теперь нет целой ножки. Мои глаза наполняются слезами, и я стараюсь их сморгнуть.
Говорю себе, что это кот. Должно же быть объяснение: я оставила открытой дверь продуктового шкафа, а Альфонс пробрался туда. Он сейчас почти дикий, питается птицами и грызунами, потому что я мало что могу ему дать. Он ухватился бы за возможность достать немного доступного мяса. Но если это сделал Альфонс, то почему он стащил только ножку? И почему она была аккуратно отломана? Почему я не нашла разбросанных костей?