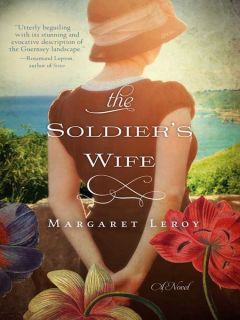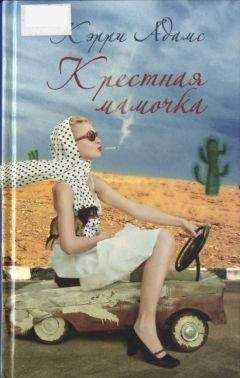Милли с сияющими глазами вбегает в дом. К ее джемперу прицепились репьи, а в волосах запутались травинки.
— Мы поймали колюшку. В ручье в Белом лесу. Она была очень большая, мамочка. Вот такая. — Она руками показывает, насколько большая. — Потом мы ее отпустили.
Она поднимает глаза, видит выражение моего лица и хмурит брови.
— Что такое? Ты мне не веришь? — спрашивает она.
— Из шкафа пропал кусок курицы, — говорю я. — Это ты его взяла, Милли?
Я почти жалею, что спросила. Мой вопрос стирает счастье с ее лица, и оно становится пустым, как закрытая дверь.
Она мотает головой.
— Я не ела курицу, — говорит она невыразительным, упрямым тоном.
Я встаю на колени перед ней и беру ее лицо в ладони. Ее кожа разогрелась от бега.
— Милли, посмотри на меня.
Она смотрит. Я чувствую ее дыхание на своем лице.
— Ты говоришь правду? Это на самом деле так?
Она смотрит мне в лицо, но ее глаза пусты и ничего не выдают.
— Да, это правда.
— Ты же знаешь, какая трудная жизнь сейчас, да? У нас не очень много еды.
— Да.
Но я чувствую, что не могу достучаться до нее.
— Мы должны делить ее поровну. Это очень важно, Милли.
— Я знаю, — говорит она. — Я знаю, что мы должны делить ее поровну. Поверь, мамочка. Я вовсе не ела ее.
Я пребываю в неуверенности. Может быть, она не брала курицу. Мне не верится, что она так нагло соврала мне. Но возможно, что я ошибаюсь. Возможно, я опять иду на уступки. Я чувствую себя разбитой. Неужели я неправильно вырастила дочерей?
В голове раздаются слова Эвелин, благочестивые, неодобрительные. Она частенько говорит: «Детям нужна дисциплина. Ты слишком мягка с девочками, Вивьен, так ты только накапливаешь проблемы… Поверь, ничего хорошего из этого не выйдет».
Гюнтер приносит мне хлеб из своего пайка.
— Ты уверен, что можешь поделиться? — спрашиваю я.
— Я счастлив это сделать, — отвечает он.
Я очень ему признательна. Беру хлеб, проводя пальцами по жилам на его запястьях, и притягиваю Гюнтера к себе.
— Спасибо.
Мы съедим этот хлеб с куриным супом, который я приготовила.
На следующий день, когда Милли играет с Симоном, я иду в кладовку, произнеся короткую молитву о том, чтобы все было, как следует. Открываю дверь в кладовку и поднимаю крышку хлебницы. Нет. Половина буханки исчезла. Она не оторвана, а отрезана, но неумело, кем-то, кто еще не научился хорошо пользоваться ножом.
Когда Милли возвращается домой, я ищу сумку, с которой она ходит гулять. Она бросила ее в коридоре. Развязываю сумку, чувствуя, как в животе бабочкой бьется паника, будто уже все знаю, еще не заглянув внутрь. Сумка пахнет яблоками. Я переворачиваю сумку, и из нее вываливаются все сокровища, которые Милли собрала: веточки, маленькие голубые камешки, голубиное перо. Хлебные крошки.
Мне не по себе: в голове крутятся неприятные вопросы. Где я ошиблась? Почему моя дочь не говорит правду? Я что-то сделала не так? Или все дело в сказках, которые мы читали? Какая бы причина ни была, я провалила самую важную задачу родителя: позволила ей жить в мире фантазий, и она не умеет различать, что правильно, а что нет.
Из гостиной доносится ее мелодичный смех. Иду туда. Она играет с детской коляской, которой я пользовалась, когда девочки были маленькими. Милли пытается засунуть внутрь, под простыню, Альфонса.
— Милли, у нас пропал хлеб. Это ты его взяла?
Ее смех обрывается.
— Нет, мамочка, — отвечает она высоким голосом, словно пытаясь проверить, как будут звучать ее слова.
Кот выползает из коляски. Она хватает его, Альфонс пытается вырваться.
— Милли, отпусти кота. Ты должна меня выслушать.
Она позволяет Альфонсу ускользнуть. Он оставляет на ее запястье красные, словно нити шелка, царапины. Но Милли их не замечает. Девочка немного напугана. Я не часто разговариваю с ней так резко.
— Ты не должна красть еду, — объясняю я. — Это очень, очень нехорошо. Это нечестно по отношению к остальным.
— Да, нечестно, — отвечает Милли бесцветным голосом.
— Ты же знаешь, как ее мало. Еду нужно делить поровну, — говорю я строгим, жестким и высоким голосом. — Я всегда даю тебе яблоко, когда ты уходишь играть с Симоном. Это все, что у нас есть.
Но у нее непроницаемое выражение лица. Почему-то я не могу до нее достучаться.
— Я этого не делала, — говорит Милли. — Я не ела хлеб.
Сейчас ее голос звучит вызывающе, словно она репетировала, что скажет.
— Милли, я нашла крошки в твоей сумке.
— Нет, мама, не находила, — говорит она.
Я приношу сумку и показываю хлебные крошки.
— Я этого не делала, — настаивает Милли.
Я в ужасе от того, что она вот так запросто мне лжет.
— Милли, ты же знаешь, что нужно говорить только правду.
Я понимаю, что должна злиться, должна накричать на нее, ударить. Но у нее такое несчастное личико, что я не могу этого сделать.
— Обманывать нельзя, — говорю я.
— Почему? — интересуется она.
Пытаюсь прокрутить ответ в голове. Потому что честность очень важна. Потому что мы должны доверять друг другу… Но моя жизнь… все мое счастье… основано на тайнах и лжи.
— Некоторые вещи просто недопустимы, — объясняю я. Но мой голос какой-то пустой, как чрево пещеры. Мой дар убеждения бесследно исчез. — Ты должна пообещать мне, что никогда так больше не сделаешь.
— Но я и не делала, — снова говорит она. — Я не ела хлеб.
- Вивьен, тебя что-то беспокоит.
— Да.
— Расскажешь?
Его голова покоится на подушке, я приподнимаюсь на локте и заглядываю ему в лицо. Даже в слабом свете свечей заметно, насколько он изменился за время нашего знакомства. Стал старше: волосы побелели и поредели, на лбу появились морщины. Я смотрю и гадаю, как же я выгляжу в его глазах, насколько я изменилась с того момента, как он впервые увидел меня в переулке, где гуляли порывы душистого ветра. Я знаю: за месяцы и годы, что идет война, я не стала краше.
Откашливаюсь
— Милли. Она крала еду. Но что бы я ей ни говорила, она пропускает мимо ушей. Полагаю, она просто не понимает, насколько это серьезно, особенно сейчас, когда еды так мало.
— Молодому организму очень трудно справляться с голодом, — говорит он.
— Но это еще не все. Она придумывает всякие разные истории. Продолжает настаивать, что там, где они играют, водится призрак. В амбаре. Какие-то странные выдумки. Но, похоже, она сама в это верит.
— Что за амбар? — спрашивает Гюнтер.