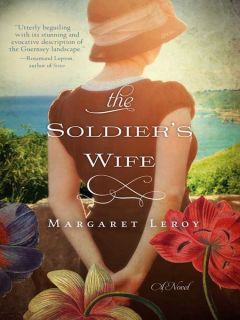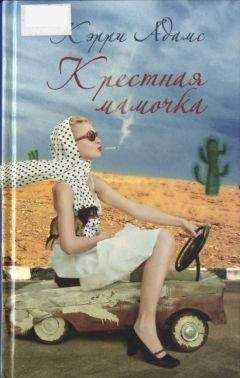Внезапный крик заставляет меня вздрогнуть — голос немецкого солдата: резкий, стальной, отдающий команду. Я замираю, сердце выпрыгивает из груди. Прекрасно понимаю, что это значит — отряд рабов-рабочих возвращается с работы. Передо мной возникает то, что я старательно отодвигала подальше на задворки своего сознания: страшная повседневная жестокость. У меня нет времени, чтобы спрятаться. Вжимаюсь в живую изгородь.
Из-за поворота в поле моего зрения появляется отряд рабочих. Они, наверное, строят на вершине утеса бетонное кольцо Гитлера. Их охраняют двое охранников из «Организации Тодта» с ружьями и повязками с изображением свастики.
Наблюдаю за рабочими. Земля уходит из-под ног.
Похоже, заключенные работали с цементом — они все покрытым им: сероватый порошок у них на волосах, на коже, на ресницах. От этого их лица совершенно белые, на них нет ни единой яркой краски.
Одеты рабочие в рванье, поэтому у многих вокруг талии обрезками проволоки или веревки закреплены мешки из-под цемента. Они совершенно босые, у некоторых мешки обмотаны вокруг ступней. От бессилия и истощения их головы повисли, а сквозь кожу проступают острые кости.
В сумраке они выглядят совершенно безликими, как призраки. И поступь их совершенно бесшумна.
Милли приснилось, что она проглотила рыбную косточку, и она просыпается с болью в горле. Я говорю, что ей придется остаться дома.
— Можно мне погулять с Симоном? — спрашивает она. — Когда он придет домой из школы?
— Нет. Конечно, нет, — поспешно отвечаю я. — Тебе нельзя гулять, если ты не ходила в школу.
У Милли заложен нос. Я капаю несколько капель раствора для ингаляций в миску с горячей водой и велю ей дышать парами под полотенцем, крепко зажмурив глаза.
После процедуры ей дышится намного легче. Приношу пуховое одеяло, устраиваю ее на диване и кладу на поднос пазл с Букингемским дворцом. Это единственный раз, когда я рада тому, что мой ребенок болеет: так мне будет проще.
Примерно за час до комендантского часа, когда Эвелин у себя в спальне, а Бланш еще у Селесты, я говорю Милли, что мне надо ненадолго уйти. На крыше Ле Коломбьер заливается черный дрозд. Я пересекаю дорогу и иду через свой сад в поля.
По вечерней прохладе огибаю окраину Белого леса и подхожу к сараю Питера Махи. Сердце колотится в груди. Реагирую на каждый шорох и шепот листьев, на каждый звук окружающей меня местности, на возню каждого прячущегося в траве зверька. Словно я здесь чужая.
У подножия сарая лежит более густая тень, будто разлилась черная река. Приблизившись, я замечаю, что дверь открыта. Тихонько подхожу и заглядываю в нее.
Поначалу я ничего не могу разглядеть, только темноту внутри. Возможно, я ошиблась, поспешила с неверными выводами. Меня охватывает облегчение. Я уже готова повернуться и уйти, когда понимаю, что более густая темнота в углу на самом деле человек.
Он сидит ко мне боком и не видит меня. Думаю, его восприятие притупилось от истощения, от голода, от того, что ему пришлось повидать. Он сидит наклонившись вперед, его сгорбленная тень падает на пол. Как и те люди, которых я видела на обрыве, он одет в мешок, подвязанный проволокой, с дырками для рук.
Обувь тоже сделана из мешковины. Я не могу понять, какого цвета его волосы или сколько ему лет. Все, что делает его личностью, стерто пылью, грязью и голодом.
Мир вокруг меня замирает, становится пустым. Я слышу только звук его зубов, впивающихся в хлеб, и приглушенный стук своего колотящегося сердца.
В голове звучит тонкий голосок, тихий, озабоченный, убеждающий: «Не смотри. Так безопаснее. Уходи. Возвращайся в Ле Коломбьер и сделай вид, что этого не было. Притворись, что ты не видела его…»
И что-то во мне отчаянно желает подчиниться этому тихому голосу. Не только из-за опасности. Позволить себе посмотреть — значит поставить себя на его место. На место голодного, несчастного, замученного человека. А я не могу этого вынести.
Но моя дочь приходила и смотрела на него. Милли, которой шесть лет и которая не боится темноты. Милли приходила и смотрела — и не отвернулась.
Когда я возвращаюсь домой, Милли все еще сидит на диване, завернутая в одеяло, и собирает пазл. Стойкий аромат ментола и эвкалипта висит в комнате и щиплет глаза.
Я встаю на колени рядом с ней.
— Милли, я видела твоего призрака. В сарае мистера Махи.
Она замирает, лицо превращается в маску, а рука зависает над пазлом, в маленьких пальчиках зажат кусочек неба.
— Я знаю, что ты брала еду, — говорю я.
Она кладет кусочек пазла обратно на поднос, аккуратно, с тихим щелчком, как будто сломали тонкую косточку.
— Он был голоден, — с вызовом отвечает она. — У нас была еда, а у него не было. Это нечестно.
— Да, нечестно.
У нее небольшая лихорадка, к потному покрасневшему личику прилипла прядь волос. Она смахивает волосы, словно злится на них.
— Ты не должна сердиться на меня, мамочка.
— Я не сержусь, милая. Не сержусь.
— Он хотел есть, и мы его кормили, — продолжает Милли. Ее руки сжаты в кулачки. Она так сосредоточена на том, чтобы объяснить мне.
— Да. Я понимаю, почему вы это делали.
— Он пришел из ада. Он там живет. Он живет в аду. Он нам сказал.
— Милли…
— И все не так, как говорил пастор. Пастор ошибается, когда говорит, что ад — это не место. Мой призрак говорит, что ад существует. Я знаю, что ты мне не веришь…
— Я верю тебе.
Ее глаза удивленно распахиваются.
Я обнимаю ее. Она напряжена и сдержанна от неуверенности в том, что на меня нашло и о чем я думаю.
— Но я не хочу, чтобы ты продолжала это делать, милая, — говорю я. — Это слишком опасно.
— Нет, ты ошибаешься, — возражает Милли. — Ты так говоришь, потому что не знаешь его. Призрак добрый. Он не причинит нам вреда.
— Я уверена в этом.
— Я просто хотела напугать Бланш. Когда сказала, что он страшный. Я соврала, потому что она зануда. Я хотела ее напугать.
— Я не об этом. Я знаю, что он не причинит тебе вреда. Но если немцы узнают, они очень разозлятся.
— Они посадят нас в тюрьму?
— Да. В тюрьму или… — Я вспоминаю, что рассказывала Вера около школьных ворот. О женщине с Джерси, которая прятала рабочего в своем доме. О том, что ее застрелили. Гоню мысль прочь. — Дело в том, что они не должны узнать. Никогда.
— Но кто-то должен его кормить, — говорит Милли. — Если не мы с Симоном, то кто станет это делать? Он умрет от голода.
— Милли, такими вещами должны заниматься взрослые. Для детей это слишком опасно. Я хочу, чтобы ты сказала Симону, что вам больше нельзя ходить в сарай. Сделаешь?