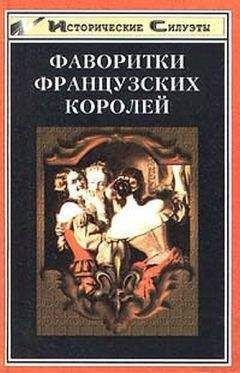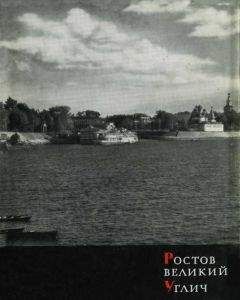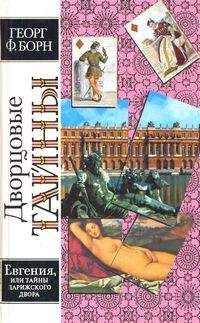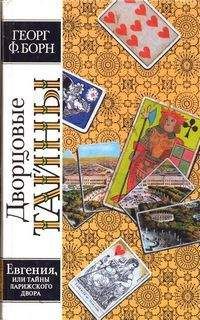Ненависть страны обрекала Генриха III на продолжение гражданских войн, от которых Франция уже давно устала и которые занимали не одно поколение французов.
Особенно раздражал его царедворцев и подданных безудержный и наглый фаворитизм мужского рода, доселе незнакомый французским королям. И хотя Генриха, короля-монаха или лживого святого, обвиняли во всех смертных грехах, он честно нес на себе крест угасающей династии Валуа, словно церемониями своего двора и своим поведением стремясь придать праздничный феерический блеск концу и эпилогу исторической трагедии.
Вина же его заключалась в том, что он придал ей вид фарса. А этого, при всей серьезности тогдашнего положения страны, история ему так и не смогла простить. Она то жестоко обвиняла его, то пыталась так же яростно обелить. Быть может, и то, и другое одинаково напрасно.
Слухи о позорном пороке, в который внезапно погрузился Генрих III, приводили Екатерину Медичи в отчаяние. Несколько раз в день она входила в комнату своего сына, чтобы напомнить о реальности и привлечь его внимание к трагическому положению, в котором оказалось его королевство» [312] . Так было и тогда, когда герцог Алансонский, младший брат короля, примкнул к протестантам, и 30 тысяч его сторонников могли из герцогства Анжуйского начать боевые действия против Парижа, так было и позже, когда в ответ на подписанный королем в Больё эдикт, предоставлявший реформатам значительные права и привидении, герцог Генрих де Гиз с целью «восстановления господнего таинства и повиновения Его Величеству», создал Священную Лигу, готовую в любой момент свергнуть власть самих Валуа под предлогом защиты дела католицизма и яростной борьбы против кальвинистов [313] .
Генрих III болезненно чувствовал, как ему не хватает сторонников, что трон шатается и земля уходит у него из-под ног. Кроме того, укоры его матери делали свое дело. Он мог доверять только близким друзьям, своим фаворитам, которые отличились на военном поприще, были верны и преданы ему, а главное (что доставляло ему особое удовольствие), «позволяли себе дерзкие выходки против брата короля герцога Алансонского (потом герцога Анжу) и его людей и других представителей консервативно настроенной аристократии. Эти четыре мушкетера короля, к которым позднее примкнули еще несколько других, вызывающе одевались, ценили развлечения и галантные (и не только) приключения. Печально известна дуэль миньонов, состоявшаяся 27 апреля 1578 года [314] и унесшая четыре жизни; она была, собственно говоря, отражением борьбы между враждующими католическими группировками».
Из четырех первых фаворитов Сен-Сюльпис был убит в 1576 году, Келюс умер через 33 дня после упомянутой выше роковой дуэли, Сен-Люк, разболтавший своей жене альковные тайны короля, в 1580 году впал в немилость и едва избежал судебного процесса, четвертый, Франсуа д’О, которого Генрих из-за его превосходного управления финансами называл «мой великий эконом», в 1581 году, когда его звезда стала клониться к закату, удалился от двора.
В 1578–1579 гг. в поле зрения исследователей появляются два других фаворита короля, Анн де Жуайёз и Жан-Луи де ля Валетт. Их обоих современники называли «архиминьонами», оба поднялись выше своих предшественников и получили титул герцога (де Жуайёз и д’Эпернон). Отношение короля к этим фаворитам, которых он иногда называл «мои братья», пожалуй, лучше всего выразил тосканский посланник Кавриана, который в 1586 году так прокомментировал их военный успех: «Отец очень радуется, видя, как оба его приемных сына доказывали свои достоинства» [315] .
Однако были и менее лестные отзывы о наклонностях интимных друзей короля. Так, известный поэт и историк своего времени Агриппа д’Обинье в работе «Католическая исповедь сьёра (владетеля) де Санси» писал об одном из своих знакомых, попавших неожиданно в милость к королю: «Этот бедный юноша питал отвращение к таким (!?) гадостям и в первый раз пошел на это по принуждению. Король приказал ему взять книгу из сундука, и когда тот нагнулся, Великий Приор и Камиль (прозвища двух любимцев короля — Антуана де Силли, графа де Рошпо, и кавалера Сальвати) прищемили ему крышкой поясницу. Это называлось у них „поймать зайца в силок“. Вот таким-то образом его и принудили силой к этому ремеслу».
И вслед за Агриппой д’Обинье Ги Бретон продолжает так: «Будучи эклектиком, король обращал свои вожделенные взгляды не только на юношей благородного происхождения. Ему случалось млеть при виде рабочего, вызванного во дворец для ремонта. Так, однажды, большое впечатление на него произвел некий обойщик. „Увидев, как он чинил в зале подсвечники, стоя на высокой лестнице, — рассказывает д’Обинье, — король так в него влюбился, что расплакался“» [316] .
Однако уже историк Мишле предостерегал от негативного отношения к миньонам. Хотя их и называли «министрами сладострастия» короля, вероятно, что поведение короля, и без того очень странное, обрастало слухами, оскорблениями и всяческими полуправдами, превращая очень экзальтированного и в значительной мере платонического монарха (по всей видимости, склонного наслаждаться зрелищем эротических, возбуждающих игр, хотя бы втайне) в чудовище подлинного разврата.
Напротив, известно и другое: «с самого первого посещения монастыря паулинок в январе 1583 года Генрих все больше и больше удалялся от мира. За монастырскими стенами он чувствовал себя прекрасно и был рад тому, чем довольствовались сами монахи» [317].
Увы, подобное благочестие не находило понимания ни у Екатерины Медичи, ни у его подданных.
Они совершенно терялись в догадках, не зная, чего в следующий раз ждать от такого государя, и начинали опасаться его причуд. Что в них было правдой, что игрой? Что рисовкой, а что подлинным чувством? «Даже папа не одобрял поведения Генриха, которого современники называли иногда королем-монахом» [318] . Что ж, страсти порой находят весьма своеобразное выражение, и пороки могут соседствовать с благочестием, даже искренним, легко воспламеняемые им и питающие его у натур страстных и экзальтированных (но весьма склонных подчас переходить от чувственного к платоническому и обратно, тем самым словно удовлетворяя тайную потребность своей природы. «Что я люблю, я люблю до конца», — говорил король. Словом, Генрих был необычным ребенком в своей семье. «Однако на протяжении столетий никто не желал признать этого» [319].