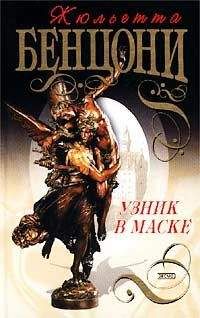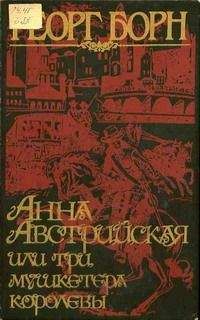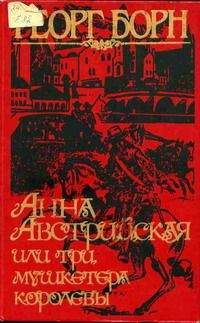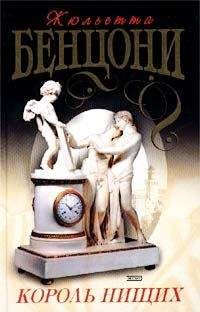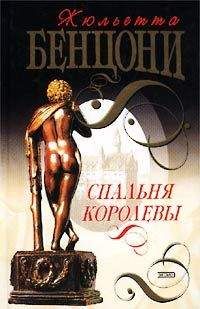Как ни странно, начавшаяся война с Англией повлияла на судьбу Мари.
Счастливое на первых порах супружество Мадам осталось в прошлом, и отношения с супругом неуклонно ухудшались, несмотря на рождение двоих детей. Повинны в этом были друзья Месье — одни, как шевалье де Лорен или Вардес, которого она отправила в изгнание, презирали ее, другие, вроде Гиша слишком хорошо к ней относились. Кроме того, если с королем ее по-прежнему связывали доверительные и даже нежные отношения, ибо Людовик ХIV рассматривал ее как вернейшую связующую нить с Англией, а также разумную советчицу, то с Марией-Терезией она почти окончательно порвала, поскольку та не скрывал свою ревность, равную ревности к Лавальер. Наконец принцессу беспокоили, более того, удручали события в Лондоне. Королева Генриетта, ее мать, вернулась во Францию, сбежав от страшной эпидемии чумы, разразившейся в английской столице и обрекшей на смерть немало ее друзей, но не смогла оказать помощи дочери, так как проводила время в большей части в своем замке в Коломбо и на водах в Бурбоне. Спустя год Лондон стал жертвой страшного, вошедшего в историю пожара, в который слились костры, разводимые для сжигания трупов. В огне погибли все старые кварталы города. В довершение зол, серьезно захворал малолетний герцог Валуа, которому едва исполнилось два года, что совпало по времени с ухудшением отношений между двумя людьми, которых Мадам любила больше все на свете, ее братом Карлом II и деверем Людовиком XIV. Узнав, что юная Мари де Фонсом, которую она всегда нежно любила, удалилась в монастырь Шайо, она отправила к ней госпожу де Лафайет, передать ее просьбу вернуться ко двору. Так Мари снова оказалась в Пале-Рояль и заняла привилегированное место при принцессе. Выполняя распоряжение последней, госпожа де Лафайет написала письмо изгнаннице — матери Мари, сама же Мари продолжала хранить молчание. Сильви пришлось смиренно дожидаться развития событий.
Фонсом и его обитатели проводили дни, недели и месяцы в монотонной скуке. Сильви, возобновившая поездки верхом, уделяла много времени своим крестьянам. Те благодарили ее за внимание к их нуждам уважением и дружбой, хотя ей по-прежнему не удавалось проникнуть в тайну, окружавшую исчезновение Набо. В конце концов у Сильви опустились руки, люди упорно хранили тайну, и она не хотела принуждать их поступать вопреки совести.
В отличие от десятилетия, проведенного ею в Фонсоме после гибели мужа, теперь она не поддерживала отношений с владельцами окрестных замков. Соседи, в былые времена наперебой добивавшиеся ее дружбы, нынче не желали якшаться с особой, навлекшей на себя королевскую немилость. Но ни она, ни Персеваль не страдали от этого. Персеваль с удвоенной энергией взялся за ботанику, чтение, садоводство, проводил яростные шахматные баталии с аббатом Фортье или давним другом Мериссом, который иногда приезжал погостить на несколько дней. К тому же шевалье неустанно переписывался с парижскими друзьями:
Сильви не очень-то любила писать письма, так что эту задачу взвалил на себя он. Благодаря этому даже в изгнании Сильви была в курсе событий в королевстве. Наиболее прилежной корреспонденткой оказалась Мадемуазель, и ее стараниями Сильви оставалась в курсе придворной жизни.
В частности, от нее не укрылось, что Лавальер, продолжая рожать от короля детей, постепенно выходит из фавора, все больше оттесняемая в тень новой ослепительной звездой — Атенаис де Монтеспан, поймавшей короля в свои сети. Когда Лавальер, в очередной раз беременная, была удостоена герцогского титула, никто не усомнился, что это — дар, знаменующий окончательный разрыв, так как мучения этой скромнейшей из фавориток начались гораздо раньше. Совсем скоро в объятиях короля оказалась госпожа де Монтеспан. Эту новость в Фонсоме узнали уже не из писем, а от провинциальных сплетников, ведь добродетель, мнившая себя неприступной, пала совсем неподалеку, в Ла-Фер, куда Людовик XIV любил возить своих дам.
Лавальер, намеренно оставленная в Париже, не смогла этого вынести. Она села в карету и, пренебрегая своим состоянием и плохими дорогами, приказала везти себя к обожаемому возлюбленному, чем только приблизила разрыв, бывшая фрейлина Мадам окончательно заменила ее в сердце и в постели короля. Прошло еще несколько месяцев — и она поменяла королевский двор на монастырь Шайо. Что до госпожи де Монтеспан, то ее переписка с Сильви оборвалась.
Сильви задавалась вопросом, сохранит ли новая фаворитка былое дружеское расположение к ее дочери или предпочтет отвернуться от свидетелей и свидетельниц прежних, нелегких времен. Первым отвергнутым стал ее муж, женившийся в свое время по любви, а теперь не скрывавший от двора и от всего Парижа своего гнева. Он поколотил братьев Монтазье, обвинив их в том, что это они отдали его жену королю, украсил свою шляпу рогами и порывался вызвать Людовика на дуэль. Добился он таким поведением одного — места в Бастилии. Под пером Мадемуазель его выходки приобретали смехотворный вид, хотя принцесса не могла отказать ему в искренности чувства. К несчастью, о Мари она упоминала разве что косвенно, так, она сообщала, что после смерти своего сына, маленького герцога Валуа, Мадам ужасно горюет и избегает двора. Сильви делала вывод, что последнее относится и к Мари…
Но усерднее всего она искала в письмах Мадемуазель новостей о Франсуа, зная, что принцесса сохраняет с ним самые дружеские отношения. Та упоминала о нем только в связи с его неуклонно ухудшающимися отношениями с Кольбером, на которые никак не влияли его победы над врагом и неустанные труды на благо французского флота. К чести Кольбера, о нуждах флота не забывал и он. В Париже Бофора теперь не видели, следовательно, там не появлялся и Филипп, превратившийся в его верную тень. Так продолжалось до зимнего вечера, когда… Слуги уже закрывали внутренние ставни, Корантен обходил по своему обыкновению имение с собаками, а в кухне гасили на ночь огонь, как вдруг старая аллея наполнилась шумом приближающегося конного отряда, цоканьем копыт, позвякиваньем сбруи, скрипом колес… Мгновение — и весь замок встрепенулся. Люди бросились зажигать фонари, Корантен прервал свой обход, Сильви, вышивавшая ризу для аббата Фортье, и Персеваль, лакомившийся бульоном из цесарки у себя в библиотеке, кинулись к окнам. Их взорам предстали дорожная карета, трое всадников и полдюжины вооруженных людей.
— Уж не вернулась ли к нам Мадемуазель? — предположил Рагнель.
Но Сильви, подобрав юбки, уже бросилась со сдавленным криком в большой вестибюль, свет еще не успел озарить лица, шляпы еще не были сдернуты с голов, а сердце уже подсказало ей, что во дворе замка находятся Франсуа, Филипп и Пьер де Гансевиль… До ее ушей долетел мощный голос Бофора, потребовавшего носилок для господина аббата. Карета и впрямь доставила к замку аббата Резини, но до чего же изменившегося! Проведя последнюю кампанию на суше, в покое и удобстве нантского монастыря, причиной чему послужило пустяковое происшествие, он вдвое раздался вширь и стал еще больше мучиться от вечного своего недуга — подагры.