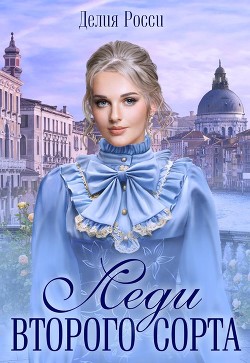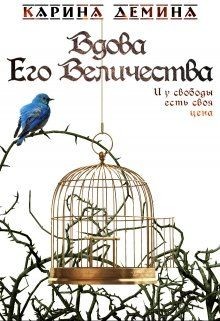– Это не для ваших ушей, ваше сиятельство.
Честное слово, он краснеет!
Его удивляет мой интерес к сельскохозяйственным делам. Он полагает, что благородным дамам не пристало марать свои ножки ходьбой по лугам да пашням.
– Ваш покойный супруг, Анна Николаевна, и то никогда дальше заднего двора не бывал. А потому как ни к чему это – на это у вас я есть. Ничего там любопытного и нет вовсе. Одна грязь кругом. Это уж когда травы в лугах зацветут, да ягоды с фруктами в садах появятся – дело другое. Да и то – не свои же вам ручки утруждать. Девки вон чего хотите наберут – и яблок, и малины, и кислицы.
Но я велю закладывать экипаж, и Сухарев, хоть и демонстрирует всем своим видом осуждение, идет насчет этого распорядиться.
– Так его, Аннушка! – хвалит Глафира Дементьевна. – Ишь как округлился на хозяйских харчах. Пускай-ка теперь рысью побегает.
Но рысью бегать Сухарев не желает, да, наверно, и не способен. Хотя на козлы садится сам – не хочет, должно быть, чтобы кучер наши разговоры слышал.
Мы неспешно проезжаем по деревне. Во дворах хлопочут только старики да совсем малые дети. Остальные уже на полевых работах.
У местных крестьян хозяйство небогатое – избушки ветхие, темные. Новые постройки редко где видны. Так же неказисто выглядят и их наделы за деревней – местность там неровная, овражистая.
– Долго ли вода тут по весне стоит?
В нашем времени вдоль этого оврага (ага, куда ж он денется?) идет линия электропередач, под которой, понятное дело, никто ничего не строит и не садит. Здесь же с этих полей, должно быть, вся деревня кормится.
– Стоит иной раз, – нехотя признает он.
Так же неохотно он отвечает и на другие мои вопросы. Нет, крестьяне не жалуются. На что им жаловаться-то? Другие-то помещики со своими куда как строже обращаются. Но чрезмерную доброту старого графа Данилова Сухарев не одобряет.
– Им, Анна Николаевна, только палец в рот положи – всю руку откусят. Им и без того нынче вольности много дают. Как газеты почитаешь, страшно становится. А у нас, чай, не Европа, нашим кнут нужен.
Интересно, как он воспримет отмену крепостного права, которая произойдет уже через два года? Сможет ли смириться с тем, что другие крестьяне станут такими же вольными, как и он сейчас?
Впрочем, эти мысли улетучиваются у меня из головы, стоит нам заговорить о той системе земледелия, что применяется в Даниловке. Я полагала, что к середине девятнадцатого века трехполье считалось отсталым даже в России. Но нет, Сухарев защищает его с пеной у рта.
– Да как же, Анна Николаевна? – дивится он, когда я осмеливаюсь это покритиковать. – Да испокон веков так сеяли. Одна часть – озимые, другая – яровые, а третья под паром стоит.
Сумею ли я его переубедить? Я понимаю, что могу приказать, и ослушаться он не посмеет. Но мне не хочется, чтобы он работал из-под палки, не веря в результат того, что ему придется делать. А то еще и вредить станет, чтобы доказать свою правоту.
Наверно, стоит еще полистать «Земледельческую газету» - быть может, там есть статьи с более передовым опытом. Хотя для таких, как Сухарев, главные авторитеты – это деды и прадеды. И никакие ученые, тем более европейские, не заставят его признать то, что не признавали предки.
Но я всё-таки попробую рассказать ему и о четырехполье, и о более прогрессивных системах. А еще нам нужно будет съездить на сельскохозяйственную ярмарку, которая, по словам самого Захара Егоровича, вот-вот должна была состояться в столице губернии. Думаю, мы сможем позволить себе хотя бы частично обновить плуги и сеялки – потому что с теми орудиями, что мне показали в большом сарае за фермой, много не наработаешь.
Расспрашиваю я Сухарева и об урожайности зерновых, и его ответ меня ничуть не удивляет. Перевожу на привычные мне единицы измерения, и выходит совсем мелочь – около пяти центнеров с гектара – в четыре раза меньше, чем в нашем акционерном обществе. А ведь местность-то та же!
Похоже, придется привезти в хозяйство настоящего агронома – надеюсь, в городе такой отыщется. Если я сама вдруг начну проявлять недюжинные познания в этом вопросе, боюсь, Захар Егорович примет меня за сумасшедшую.
Обратно мы едем заметно погрустневшие. Я мысленно пытаюсь прикинуть, какую прибыль недополучает хозяйство из-за такого нерационального использования ресурсов, а Сухарев, наверно, чувствует мое скрытое недовольство, и уже лишнее слово сказать не решается.
Уже у самой деревни мы нагоняем возвращающихся с полей мужиков. Они дружно сдергивают с голов шапки, кланяются. Все, кроме одного.
Нет, Кузнецов тоже обнажает голову и даже изображает нечто, похожее на поклон. Но делает это словно нехотя, продолжая с вызовом смотреть на меня и на Сухарева.
Захар Егорович встряхивает вожжами, заставляя лошадь перейти на рысь.
– Вот уж кому кнут бы не помешал, – цедит он сквозь зубы, когда мужики остаются далеко позади. – Избаловал его старый барин – сызмала с ним возился, читать-писать научил. Только я так скажу – простому мужику эти учености ни к чему. Ежели все учеными станут, работать некому будет.
– Значит, старый граф его привечал? – удивляюсь я.
Сухарев пожимает плечами – дескать, кто эти барские прихоти разберет?
– Своих-то детей у Андрея Михайловича не было, вот и привечал мальчонку. А того не понимал, что своей добротой тому только ложные надежды подает. Книжки ему из города привозил, любил, значит, чтобы тот вслух читал. А помер барин, и всё – Вадимке обратно к сохе вертаться пришлось. Не до книжек теперь. А отвыкать-то от хорошего ох как сложно, – и вдруг добавляет без всякой видимой связи с предыдущей мыслью, – Женить его надо, Анна Николаевна. Вон хоть на той же Варваре – девка давно уж по нему сохнет. Так, может, и остепенится, за ум возьмется.
Я обещаю над этим подумать, но тут же забываю о своем обещании. Не хватает мне еще в чужие дела вмешиваться. Сами разберутся.
25. Трын-трава
– Сосредоточься! – требует тетушка. – Вот, гляди!
Она взмахивает рукой, и стоящая на столе чернильница перемещается с одного его края на другой. У нее это выходит так легко, что я скрежещу зубами от зависти.
Я пытаюсь проделать то же самое уже целых полчаса, но у меня совершенно ничего не получается.
Черный тетушкин кот сидит на спинке кресла и внимательно наблюдает за моими потугами. Мне даже кажется, он надо мной смеется. И каждый раз, когда он произносит «мур», мне слышится совсем другое – «дура».
– Васька, а ну кыш! – шикаю я.
Но кот даже не двигается с места. Зато тетушка бросает на меня не самый ласковый взгляд.
– Сколько раз тебе говорить, он – Василисий!
Я киваю. Василисий так Василисий. Хотя, когда он хочет есть, то может откликнуться и на Ваську. Впрочем, тетушке об этом знать не обязательно.
– Ладно, пусть не чернильница, – сдается Глафира Дементьевна, – но хотя бы листок бумаги!
Но даже это оказывается для меня непосильной задачей. Может быть, я всё-таки не ведьма?
Я не произношу это вслух, но этого и не требуется. При тетушке думать нельзя ни о чём – она мгновенно прочитывает чужие мысли. Я уже даже думаю над тем, как это можно использовать в хозяйстве. А что? Удобно. Можно, например, побеседовать с Сухаревым в ее присутствии, задать ему вопросы по доходам и расходам. И уже неважно будет, что он скажет. Важно будет, что подумает.
Эта мысль заставляет меня улыбнуться.
– На-ко же! – тетушка возмущена. – Ты ведьмой-то хочешь стать? Так побудь хоть немного серьезной.
Она занимается со мной уже который день. Я выучила несколько заклинаний, научилась разбираться в некоторых особо часто используемых в зельеварении растениях, выпила какое-то снадобье, которое, по ее словам, пробуждало скрытые способности.
Но то ли снадобье оказалось недостаточно сильным, но ли не было у меня никаких магических способностей, но только нужного результата как не было, так и нет.
– А может быть, мы что-то не то практикуем? – несмело спрашиваю я. – Может, у меня склонность к чему-то другому?