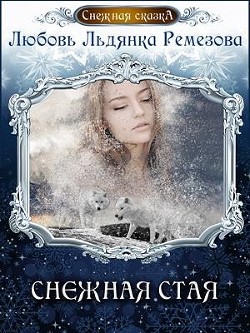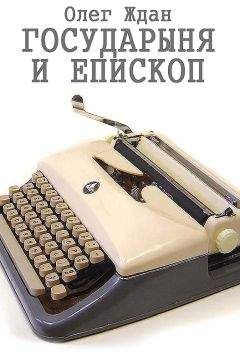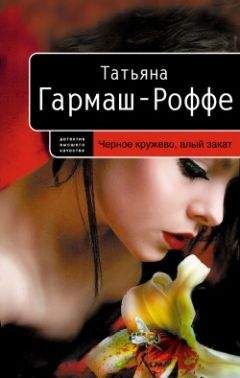Горд воротился, и запах гретого молока вплыл в двери вперед него. А еще — масла да меда, которыми сдобрено было то молоко. Маг молча отдал в руки мне тяжелую глиняную кружку, и я так же молча пригубила горячее питье, не сумев в ответ на эту заботу разъяснить ему, что снежный волк не мерзнет. Ни зимой, на снегу, ни осенью, в студеной озерной воде.
Я пила молоко меленькими глоточками, из-под ресниц наблюдая, как Колдун ходит по комнате — то от двери к столу, то по кругу. Тесно здесь, много не находишь — а он мечется, болезный. И взгляд мой он, кажется, спиной чует — дернул недовольно лопаткой, повел плечом. Я послушно опустила взгляд.
Кружка, молоко в ней, мои колени, прикрытые одеялом, дощатый пол. Стешку давно за косу никто не таскал — сор вон остался, мела, не сильно утруждаясь. Или то не она? Я потянула ноздрями воздух, пытаясь по запаху определить, кто прибирался здесь ныне.
— Ростислава ты?..
Я вскинула взгляд на Колдуна. Он смотрел на меня в упор, и я тоже взора не отвела.
Бедный, как же ты измаялся.
Темные глаза смотрели жестко, требовательно. Я качнула головой:
— Нет, не я.
И, глядя на него — такого большого, сильного, и беспомощного от того, что не в его власти переменить то, что случилось с младшим братом, добавила:
— Но я могу указать место.
Что за место — Вепрь переспрашивать не стал. И так понял, что к останкам Ростислава Куня я его привести могу. А я вдруг, увидев, как опустились плечи, как ссутулилась на миг сильная спина, запоздало поняла — а он ведь надеялся. Вопреки всему, теплилась, жила в нем надежда, что, может, жив еще младший. А теперь той надежды не стало.
Горд устало опустился рядом со мной на постель. Откинул голову назад, повел плечами, разминая закаменевшую спину да шею. Локти в колени упер, сцепил руки в замок, подбородок на них пристроил. Сгорбился весь. Могла бы его ношу на себя принять — приняла бы. Мне ли не знать, каково то — младших хоронить? Я потянулась к нему, пальцами волос на коснулась, погладила чуть ощутимо — от макушки, к затылку, от шеи по плечу, сжала его легонько. Уже воздуха в грудь набрала — рассказать ему все. Самую малость не успела — Колдун перехватил меня за руку, потянул на себя, втянул на колени, сгреб в охапку, обнял — и у меня слов не осталось, они, что снежинки от ветреного вздоха, во все стороны из головы порхнули. Руки сами взлетели и опустились на крепкие плечи, я прижалась губами к губам, всем телом к широкой груди. Потянула, поманила за собой, опускаясь на его постель.
Хоть так тебя утешить могу, сердце мое. Не думай ни о чем, иди ко мне. Все наладится, родной. Уж я-то знаю. Горе схлынет, и все образуется.
Бился в стены старого трактира ветер. Бился, выл. Терся боком, как медведь-медведище. Не время сейчас для медвежьей воли. Спать им след в берлогах — крепко, сладко. У медведиц медвежата ныне народились. А ветер воет. Трется о стены трактира, ломится внутрь. Я слушала его, сквозь грохот собственной крови в ушах, и понимала — пора.
Кончилась отсрочка, скоро, скоро зазвенят потусторонним звоном искристые нити проклятия, вопьются, да не в кожу, не в мясо или кости — а глубже. В самую суть.
Не вернусь в снежного волка своей волей — воротят силой. Пора, девка.
Я вздохнула, вбирая в себя напоследок запах лежащего рядом мужчины — запах, густо перемешанный с моим собственным, постаралась наполниться им вся целиково, от макушки до пяток. И, с сожалением выдохнув, отвалилась от горячего бока, вдоль которого вытянулась, прижимаясь всем телом. Села на постели, спиной к Горду Вепрю, обхватила себя руками, потерла плечи.
Надо идти. Хуже нет, чем когда проклятье свое себе насильно возвращает — ровно шелудивую собачонку за повод дергает…
— Пора?
— Пора.
Хорошо, что он все понимает.
Плохо, что я так и не успела ему поведать, какая судьба сыскала его брата. Теперь не скоро в человека обернуться сумею, не скоро речь обрету. Но вот иное сделать — смогу. И, обернувшись к нему, обронила:
— Завтра, на берегу. У старой ветлы. Нужное место не близко, верхами сподручнее будет.
Он кивнул молча, а я засмотрелась — на тяжелые руки, под голову подложенные. На широкую грудь. На лицо — строгое, неласковое, такое родное лицо. Широкие темные брови, ресницы, густые да короткие, нос с горбинкой, впалые щеки, тонкие губы…
Боги с ним, с поводком. Коли и дернет — ничего страшного, переживу, чай, не переломлюсь.
Я, махнув рукой на все на свете, жадно, горячо целовала заветренные мужские губы, чувствуя, как откликаются они ответной лаской, как смыкаются на мне железным капканом крепкие руки. Позабыв обо всем, я целовалась с магом-чужаком, и не желала помнить ни о чем, кроме тяжести его тела, прижавшего меня к доскам постели.
Не ведаю, что почувствовал Вепрь, когда проклятье выдрало из его рук жаркую любушку, а я, очутившись вдруг волком на заветной полянке в потаенной глуши Седого Леса, а не в объятиях сердечного друга, села в снег, да и завыла, жалуясь на жестокую долю подруженьке-луне. В ушах, после принудительного возвращения, звенело.
Старая ветла скрипела на ветру. Жаловалась, верно, на что-то. Я ее жалобы нынче слушать была не расположена — самой бы кому пожалиться, да не выйдет. И некому. Да и не на что мне, коли по-хорошему, жаловаться-то.
Я такая, какая есть, и я собой довольна. А что восхотела невозможного — так кто ж мне виноват?
…а и будь я девкой трактирной, самой что ни на есть разобычной, так то на то бы всё едино и вышло. Уехал бы мой Колдун, выполня задание — а я б осталась, дальше столы натирать да питье подавать.
Кто он, и кто я?
Разные мы, раз-ны-е. Ну а коли так — то не о чем и жаловаться. Я с неодобрением посмотрела на ветлу — ишь, расскрипелась, старая! Прислушалась к близящимся конским шагам, подобралась, подождала, пока люди поближе подъедут, оглядятся, спешатся — да и поднялась на лапы, отряхнулась.
— Ах ты ж… — с руганью отскочил в сторону Аладариэль Сапсан, которому за шиворот с моей шкуры щедро сыпануло ледяной крошкой истолченного наста.
Испуганно взвизгнул его гнедой, да и унялся — хозяин его и то, верно, больше испугался. Да и то сказать — коня-то я намеренно не пугала!
Я удовлетворенно развернулась, и потрусила в сторону Быстринки. То-то же, ушастый! Впредь будешь знать, как наушничать!
Маги, не размениваясь на долгие разговоры, воротились в седла, и припустили коней следом за мной.
Быстринка встретила нас приветливо — белой снежной лентой с черными проплешинами голого льда, вылизанными голодным ветром. Я стекла с высокого берега на прочный, мало не в локоть толщиной, лед, и ходко зарысила по гладкому пути. Коли такой ход держать, то к обеду на месте будем.
По гладкому речному льду бежалось ходко, мне то и дело приходилось умерять прыть, чтобы не оставить охотников совсем уж позади — чай, у них-то кони без устали бежать не способные.
Нужное место я узнала сразу. Умерила бег, дожидаясь приотставшего Колдуна сотоварищи, а потом и вовсе остановилась. Маги спешились, поснимали кладь, и Мальчишка с магичкой, приняв поводья у Вепря и Тихона с эльфом, взялись вываживать коней, давая им остыть после долгой скачки.
Я села на лед. Дивный поодаль рылся в своей суме, перебирал припас, проверяя, все ли цело, Тихон, пристроив свои вещи на снег, рядышком с пожитками товарищей, бродил неподалеку, пристально разглядывая узоры в черном резном льду. Мне не было до них дела. Горд Вепрь перекинул длинный ремень через плечо и подошел ко мне, терпеливо дожидаясь, когда я отомру. Я и отмерла.
Поднялась на лапы, встряхнулась, стряхивая разом с роем снежинок нахлынувшую не ко времени задумчивость.
Может, будь я одна, то и долго бы так просидела, да только была я нынче не одна.
Подошла к берегу. Покрутила головой, оглядываясь, примерясь. И поскребла лапой выкованный морозом щит, брызнув ледяной крошкой. Злорадно отметила, как сморщился от мерзкого звука остроухий, а потом развернулась ко всем магам спиной, да и потрусила с глаз долой.