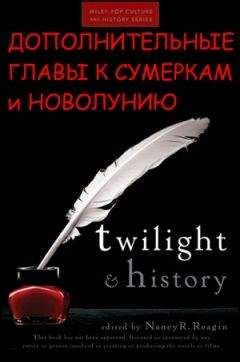Недосказанность пугала. Не отпускало ощущение надвигающейся грозы. Это как с хронически больными людьми. Ничего ещё не говорит о скором ненастье. На небе ни облачка. Солнце светит ярко и радостно. А сердечники уже хватаются за грудь и принимаются искать таблетки, безошибочно определяя приближение шторма.
Глава 3.2. «Двуспинные животные»
Мне бы, наверное, хотелось относиться к нему, как раньше. Тогда всё было проще. Я только приехала в страну, не умела говорить по-английски, но зато отчётливо понимала, что такое хорошо и что такое плохо. Мои знания о жизни были набором аксиом.
Всё, что говорит мама — принимается на веру безоговорочно. Врать нехорошо. Красть — уголовно наказуемо. Пить вредно. А вот этот высокий, черноглазый парень в вытянутой домашней футболке и линялых джинсах — мой брат. Увлечение им — дурацкое недоразумение, которое пройдёт, если избегать с ним встреч. Прятать глаза — лучший способ не выдать себя с потрохами.
Ничего не ждала от Брэйди. Мир был прост, как мычание.
Теперь же я была твёрдо уверена, что он мой. Запечатление не оставило ему выбора. Я — его судьба. Предопределение. Да у меня больше прав на этого парня, чем у законной супруги на своего мужа! Но ощущение, что меня обманули, не отпускало. Может, этот древний инстинкт, о котором все говорили с идиотским благоговением и возвышенной обречённостью, как про самую великую тайну, поменял полярность? Теперь я буду зависима от Брэйди. Буду болеть своей ненормальной привязанностью, любить его до страшной режущей боли в сердце, тянуться. А он будет играть в загадочность, и избегать прикосновений. Глупости, конечно, но всё равно… Что-то шло не так.
Вечера стали другими.
Наверное, только первые пару раз я с трепетом в сердце и ожиданием чуда накрывала стол. Старалась не оглядываться, но знала, что Брэйди плотно задергивает шторки на окнах и искоса поглядывает на меня. Запирает дверь. Набрасывает платок на плафон бра, чтобы приглушить свет. Мы усаживались за стол, и я изо всех сил старалась вести себя непринужденно. Болтать о ерунде, жевать еду, не чувствуя вкуса. Смеяться его шуткам.
Иногда получалось. Чаще — не очень. И тогда иллюзию непринужденности приходилось поддерживать Брэйди. А я следила за ним из-под ресниц.
В полумраке его смуглая кожа казалась ещё более тёмной. Мягкие полутени делали точёные черты мягче, выразительнее. И я старалась разглядеть отражение эмоций на, всегда спокойном, лице. Моим влюблённым до безумия глазам казалось, что в такие моменты они видят Брэйди насквозь. Всю адскую смесь страстей, которые кипели в его сердце. Я ловила оттенки: любовь с примесью горечи, вины и надежды; решимость, разбавленную непонятной жалостью; ненависть, с долей уважения и любопытства; страх, усиленный чувством долга. Оставалось только догадываться, что именно вызвало такую специфическую гамму эмоций. И я смотрела на него, не отрываясь. Ждала поцелуя.
Не дождалась. Почувствовав, что я снова пялюсь на него, Брэйди сам с интересом принимался рассматривать меня, и тогда вспыхивали в его глазах жаркие искры.
Казалось — протяни руки, сложи ковшиком, и счастье свалится в них само, как перезрелое яблоко. Всё будет хорошо и распрекрасно. Мы будем жить долго и счастливо. Умрём в один день, окруженные детьми и внуками.
Потом всё изменилось. Может быть, просто прошла эйфория, вызванная неожиданной встречей и признанием. Может, произошло что-то, о чём я не знаю. Может, я сама сделала что-то не так. Всё может быть.
Только теперь вечера стали тяготить.
В этих местах темнело быстро. Только что было светло, а через несколько минут солнце уже садилось за горизонт, и небо приобретало тёмно-синий, насыщенный оттенок, подсвеченный багрянцем на западе. Наступали сумерки. До полной темноты оставалось ещё каких-нибудь полчаса.
В комнате было темно. Плотно задёрнутые шторы не пропускали с улицы даже слабого сумеречного света. Яркую электрическую лампу мы включать не стали. Вместо этого на столе, между тарелками в высоких круглых стеклянных колбах горели две свечи. Потому, что так нравилось мне. Говорили о любой ерунде, только не о нас. Потому, что так хотелось ему.
— У меня на рубашке пуговицы оторвались, — сказал Брэйди. — Две. Я их в карман положил, — уточнил он и попросил. — Пришьёшь?
— Попробую, — ответила я и покачала головой в сомнении. — Ты видел, как их оторвали? «С мясом». Там, где они были пришиты, теперь дырки. Если получиться сделать аккуратно, то, конечно, зашью. А если нет — извини.
В неверном свете свечей лицо Брэйди казалось безупречно красивым. На такое абсолютное, чистое совершенство черт было больно смотреть. Он сокрушённо качал головой. Левая бровь приподнималась, в черных глазах мерцали маленькие отражения трепещущих язычков пламени. Рука поднималась в безотчетном жесте, и пятерня проезжалась по челке, которая всё равно не желала приглаживаться и торчала надо лбом смешным, трогательны ёжиком. Полные, чётко очерченные губы открывались, и он говорил:
— Блин. Хорошая рубашка. Новая совсем. Перед съемками купил. И цвет мне нравится.
— Угу. Хорошая, — согласилась я и отставила в сторону пустой стакан. — Но, кажется, её придётся выбросить.
Брэйди потянулся, чтобы налить сока.
— Завтра одену футболку. У неё точно пуговицы не оборвут.
— Хорошо. Сейчас поужинаем, поглажу.
— Дженн, да ладно тебе. Я же не инвалид. Могу сам это сделать. Ты устала. Не хочешь пораньше лечь спать?
Он меня выпроваживал. Старался не коситься в сторону ноутбука и ждал, когда уйду. Хотел просмотреть почту, и я ему мешала.
Сообщение было. Оно пришло, когда Брэйди умывался, и я естественно, сунула туда свой нос. Прочитала. Ничего не поняла. В окне электронного письма значилось только одно слово — «Мерцание» и цифры 9/7/16-11. Как в дурном фильме про шпионов.
Как там обычно пишут:
«Человек в клетчатом пальто пригнулся, делая вид, что завязывает шнурки. Его цепкий взгляд скользнул по улице, на которой по вечернему времени уже начали зажигаться фонари, по редким прохожим, которым не было до него ровно никакого дела, по тёмным провалам подворотен, ожидая намёка на движение, обозначающего опасность. Не заметив ничего подозрительного «клетчатый» выпрямился и, достав из кармана сложенный вчетверо листок, вырванный из обычной ученической тетради в клетку, незаметно сунул его в один из почтовых ящиков, висевших у парадного. Он был уверен, что даже если записка попадет в руки человека постороннего, тот не поймет ничего. На мятом листке простым карандашом был намалёван человечек, шагающий по дорожке. Рядом с человечком значилось непонятное слово «штяга»…»