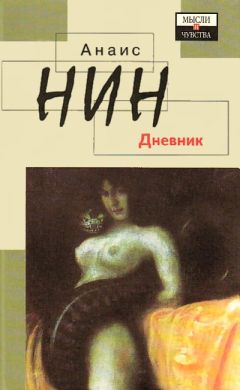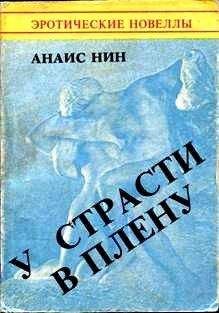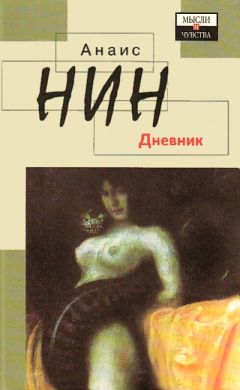Я попробовала отыскать корни моего потворства всем штучкам Генри. Попробовала объяснить Ранку, что, может быть, я не смотрю на Генри как на взрослого мужчину, осознающего свои поступки. И Ранк не стал отрицать такую возможность.
Я не смогла продолжать дальше. Я чувствую влияние Ранка, меня захватила его уверенность, что дневник для меня вреден. И тут же я поняла, что покажу ему все, чтобы для него не осталось ни одного темного места во мне. Это моя четвертая попытка отношений, основанных на полной правде. Этого не получилось с Генри — слишком многого он не смог понять; не получилось с отцом — он предпочитал жить в иллюзорном мире; не получилось с Альенди, потерявшим чувство объективности. Ранк объяснил мне сегодня причину моего желания писать о нем — сеансы анализа подходят к концу, и я чувствую, что мне предстоит потерять его. И меня тянет оставить Ранка себе, написав его портрет.
Но как только я узнала, что увижу Ранка в понедельник, желание писать пропало.
При всем при том я все еще романтик. Не то чтобы я любовалась самоубийством молодого Вертера. Нет. Я переросла веру в неотвратимость страданий. Но мне необходимо лично выразиться, лично, напрямую. Когда я закончила десять страниц романа, очень человечных, простых, искренних, когда написала несколько страниц разъедающего «Дома инцеста», когда тщательно исполнила десяток полных деталей страниц «Двойника» (ставших «Зимой притворств»), я все-таки не была удовлетворена. Мне еще многое оставалось сказать.
И то, что я должна сказать, разительно отличается от задачи художника и от искусства. Это то, что должна сказать женщина. И должна сказать не только женщина по имени Анаис, но сказать за всех женщин. Я открыла себе самое себя и чувствую, что я просто одна из многих, я — символ. Я начала понимать Джун, Жанну и многих других. Жорж Занд, Жоржетту Леблан, Элеонору Дузе, вчерашних и нынешних женщин. Молчащих женщин прошлого, укрывшихся за завесой, невыразимой словами интуиции; и сегодняшних женщин, действенных, активных, старающихся быть копией мужчины. И между ними я. Здесь моя переливающаяся через край личность, личный и вселенский потоп. Эти чувства не для книг, не для рассказов, не для литературы и искусства. Все, чем я хочу пользоваться, не подлежит трансформации. Моя жизнь была длинным рядом усилий, самодисциплины, воли. И вот здесь я могу делать наброски, импровизировать, быть свободной, быть самой собой.
Ранк хочет посмотреть, смогу ли я держаться за записную книжку, вместо того чтобы держаться за дневник. Он борется с навязчивой идеей дневника. Я начала с портрета Ранка, потому что больше ничего не подходит к моему новому письму. Попробуем еще раз.
Ранк. Храню смутное воспоминание о мощи, даже мускулистости его бесед. Об остроумии. Само содержание тоже расплывается. Да и невозможно было разобраться в способах его анализа, настолько все у него стихийно, внезапно, стремительно. И при том невероятная гибкость мышления, пластичность, даже оппортунизм, я бы сказала. У меня не было ощущения, что он знает, что я сейчас выскажу, что для него вообще играет роль то или иное утверждение. И не было с его стороны никаких советов и указаний. Никаких идей он не навязывал моему сознанию, не в пример священнику в исповедальне, вдалбливающему в мой мозг понятие о грехе окольными вопросами: «Не обуревают ли тебя нечистые мысли, дочь моя? Не любуешься ли ты своим нагим телом, дочь моя? Не трогаешь ли ты себя, чтобы получить удовольствие, дочь моя?»
Ранк выжидает, свободный, раскованный, готовый рвануться с места в любой момент. Однако он не держит наготове капканчик, который щелкнет при первой же шаблонной фразе, при первом же общем месте. Он ждет, без всякой натянутости, он свободен. Вы совершенно новое человеческое существо. Уникальное, неповторимое, Очевидного, само собой разумеющегося он не касается и начинает сразу же забирать широко, далеко, за пределы. Искусство и фантазия. Весело и живо.
Я прекратила отыскивать порядок и последовательность в наших разговорах, ведь рисунок их был причудлив, капризен и труден для распознавания. Тот порядок, что устанавливает сама жизнь, хронологический, относился совсем к другой материи. Ранк никоим образом не верил «конструкциям», построенным на логике и здравом смысле. Истина лежит где-то в другом месте. Там, где связь одного «я» с другим происходит на уровне эмоций (как у Пруста). Я начала постигать новый порядок, заключающийся в выборе событий исключительно по прихоти памяти. Этот отбор производят чувства. Больше никаких календарей!
Это также означало, что строгой календарной последовательности дневника нанесен смертельный удар.
Да, все переменилось. Оказалось, что существует доранковское видение и послеранковское. Он владел, может быть, тайной легкости и изменчивости. Другие модели — такая, как моего отца, например, — приводили к статичности «заморенного» или «замороженного».
Так мы и продолжали. И в этой беспорядочности, в этих рикошетах памяти, в этих с виду странных, сумасбродных или бродящих вокруг да около исследованиях таилось что-то, пробуждающее отвагу.
Хорошо помню день, когда он открыл два важных факта: во-первых, мое стремление к неуклонной правдивости, во-вторых, мою лживость в реальной жизни, мои художественные образные искажения правды.
Гигантские изменения произошли во мне, но вокруг меня ничего не изменилось. Сверх определенного предела я весьма мало могла пригодиться отцу. Марука оставалась беззаветно преданной женой; она служила ему и секретарем, и переписчицей нот, и автором писем, и референтом «по связям с общественностью», и управляющим,
и бухгалтером. Генри, кроме некоторых случаев, нуждался скорее в независимости, чем в заботе. Ранк предугадывал именно такое положение: женщина не находит применения всем своим силам. И теперь он показал мне, насколько много в моей концепции женщины есть от матери. Необходимость защищать, служить, вскармливать, заботиться. Так значит, не женщина во мне искала применение всем своим талантам, а мать? Но это была мать, заставлявшая меня ощущать себя женщиной.
Этот вопрос мы оставили без ответа, и Ранк принялся за другую проблему: уравновесить мое отчаянное стремление к правде и мои способности фантазировать, мой страх перед собственным воображением, мою боязнь того, во что может превратиться правда в моем столь склонном к вымыслу мозгу. Великая страсть к точности — вот что, как я думаю, потеряно в перспективе и объективности искусства.
В обоснованности этого доктор Ранк усомнился. По его словам, художник — это выдумщик и фантазер, склонный к искажению. Мы так и не знаем, что вернее — непосредственное, сиюминутное впечатление или более позднее.