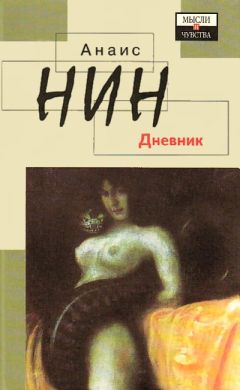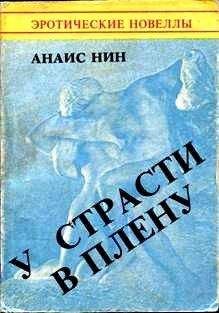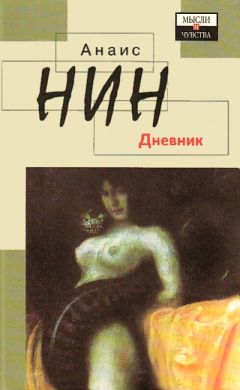Однажды, придя к доктору Ранку, я краем глаза увидела маленькую сухощавую женщину, одетую по-вдовьи во все черное. Я спросила, кто это, и Ранк мне объяснил: «Это моя жена. Незадолго до того, как мы поженились, она потеряла отца. Тогда ее черные одежды, траурный наряд казались мне вполне естественными. Но прошло время, а она так и осталась осиротевшей и безутешно горюющей, осталась вдовой[150]. Сравните это с вашими незамедлительными усилиями создать что-то взамен утраченного. В этом и есть художник».
На какой-то момент мне почудился мужчина, таящийся в аналитике Ранке. Сердечный, сострадательный, открытый, проницательный и кроткий. А в глазах, бывших для меня сначала глазами аналитика, я видела великую боль, великую неудовлетворенность и постижение бездн, мрачных, разверстых, наводящих ужас…
Но это была всего лишь вспышка. Это было так, словно и его коснулось и обрадовало то же самое мягкое и человечное мгновение, что и меня. Он знал, может быть, что женщина скоро померкнет, потому что здесь не было для нее роли, потому что женская роль — жить ради мужчины, ради единственного мужчины заказана мне моим неврозом. А дробить житье на кусочки — значит отвергнуть целостность характера. Он знал, что я вернусь к искусству…
Тоска заставила меня создать спасительную пещеру, мой дневник. И теперь я готовлюсь распроститься с тоской и отказаться от этого убежища. Я могу стоять без костылей, я могу сбросить свой панцирь. Я одна лицом к лицу с миром, одна, без дневника. Я теряю мою великую, расплывающуюся, раздробленную на части жалость к людям; я вижу в ней лишь преломление того сострадания, которого я хотела бы для себя. Но больше я не дарю сострадания никому, потому что сама в нем теперь не нуждаюсь.
Я думаю сегодня о своем автопортрете, он, может быть, нужен, чтобы выпарить суть, как выпаривают сухой остаток из раствора. Но я не слишком заинтересована в этом, ибо мои прежние «я» не подлежат реанимации. Те самые прежние «я», которые разрушает доктор Ранк и без которых я чувствую себя странно. Я чувствую себя иссякшей, заблудившейся, опустошенной, отданной в чьи-то руки. Я написала портрет Ранка и отдала ему.
Смятение. Мне жалко моего дневника, он соединял мою душу и тело, держал вместе многие мои «я». Но он скончался.
Зависимость от Ранка, обучение у Ранка привели к тому, что меня обуревало желание подарить ему ценный дар. И самый важный момент в его понимании меня был тот, когда он сказал: «Мне нравится то, что вы обо мне написали. С огромным удовольствием прочел, с огромным». И лицо его выражало искреннюю признательность, а в глазах чуть ли не слезы стояли. Он заполнил все пространство между моим первым визитом к нему и этими о нем записями… 8 ноября, день смерти дневника и сегодня.
Ранк хотел освободить меня от навязчивой мании все писать в дневнике и так немного оставлять для прозы. Он приветствовал появление моей записной книжки, только б я не писала исключительно в ней. Но все же, когда я вручила ему то, что я написала о нем, он был доволен. Так же, как и Генри. Покончи с дневником, говорили они, пиши романы. Но, взглянув на свои портреты, они говорили другое: «Это великолепно».
Ранк требовал от меня писать о настоящем времени, войти в него и не оглядываться назад. Ну что ж, я и вошла в настоящее время и обнаружила в нем Генри, занятого работой над книгой о Лоуренсе. Он совсем закопался в своих блокнотах, набросках, обрывочных записях, планах, схемах, перечнях. «Давай вместе вытаскивать телегу», — предложила я. Борьба с хаосом. Генри все прибавляет и прибавляет детали к и так уже массивной конструкции, гуща пучится фактами, твердеет, кристаллизуется, все это беспорядочно, слишком плотно, без всякого просвета. Она задавливает его. Я пробую выбросить лишнее, дать больше света, чтобы вещи стали прозрачными. «Я посвящу это тебе, — говорит Генри. — Так и напишу: Анаис, открывшей для меня мир Лоуренса[151]».
И я счастлива. Мой роман лежит себе, покрывается пылью. А я читаю «Мистерии» Кнута Гамсуна и вся наполнена безмолвной красотой этого таинства, заставляющей смолкнуть все слова. Генри считает, что он похож на Кнута Гамсуна. Но в нем нет той чистоты и простоты. Он испорчен интеллектуализмом.
Чтобы переживать зимние холода поближе к Ранку[152], я сняла на Авеню Виктора Гюго помпезно обставленную квартиру, принадлежащую одному старомодному светскому живописцу. Там полно каминов, голландских печей, больших неутепленных окон, мебели. Я обрадовалась при виде просторной с высоким потолком гостиной, но оказалось так холодно, что подолгу в ней оставаться мы не могли. С тех пор как Эмилия вышла замуж, у меня не было служанки, но я думала, что это легко поправить. Явилась Тереза с мужем, и они заняли одну из маленьких комнат. Ночью печь, как старые печи в романах Достоевского, прогорает, и я замерзаю. Мне не хочется будить Терезу, так что я поднимаюсь, сама подношу уголь к печке и растапливаю ее снова. Потом Терезе пришлось уйти от нас, и я приютила голодающего испанца с беременной женой. Он служит мне со слепой преданностью, но так как жена у него беременна, то я кончила тем, что взяла на себя заботу о ней, пока он занимается топкой, мытьем окон и тому подобным.
Тут пришел конец моей благотворительности. Есть точка, на которой чувствуешь, что должна сама спасаться. Этой точки я достигла сегодня. Генри весь погружен в работу, и я им любуюсь. Сегодня он принес мне двадцать пять страниц апофеоза своей философии. Он говорит: «Люди скажут, что я смог сформулировать такие философские принципы (квиетизм[153], созерцательность, бездействие), потому что ты все за меня делала».
Я всматриваюсь в гигантскую паутину идеологий. Они извели меня, эти бесконечные манипуляции систем, постулатов, пророчеств. Я — женщина. Я могу позволить своему взгляду не быть провидческим. Я понимаю все, Шпенглера, Ранка, Лоуренса, Генри, но на меня веет холодом от этих ледяных пространств, они слишком высоко, они слишком далеки от жизни. Ты устала от идей, говорю я самой себе. Я чувствую, что двигаюсь по нисходящей, все более и более врастаю в землю. Но пока еще я испытываю некоторые из моих самых великих радостей от этого мира, радостей, подобных радостям любви.
Другие нужды надвигаются на меня: дом в Лувесьенне, ремонт, заботы, прислуга с ее проблемами, семейные дела, отец. Скучная литания[154].
Мой вернувшийся в Париж отец больше не был таким, каким он был на юге. Он снова превратился в денди, человека светского и салонного, общественного деятеля, концертного виртуоза, желанного гостя графинь и виконтесс. Он был на сцене. Как бы я этому ни противилась, ему непременно надо было загнать меня туда же. Он хочет, чтобы Марука взяла меня к своему портному, приучила к светским условностям; он хочет, чтобы я бывала с ним на всех светских вечерах и концертах, делила бы с ним его беспечную жизнь, выбирала вместе с ним изысканную трость, пользовалась самыми дорогими духами. А я сейчас приблизилась к аскетически самоотверженному моменту всей моей жизни, стремлюсь к неприкрашенной жизни художника, стремлюсь сбросить с себя внешнюю мишуру.