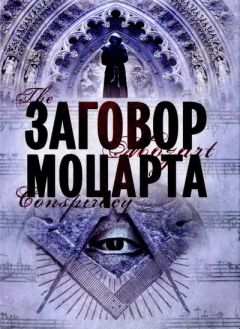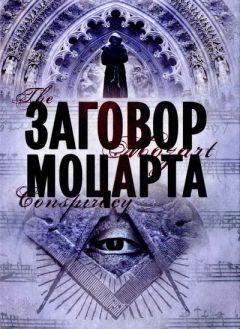Широкая пешеходная улица, летом обычно заполненная туристами как улей пчёлами и так же гудящая, сегодня выглядела пустой и безлюдной.
Дождь, поливающий с утра, распугал любителей пеших прогулок. И в просвет, внезапно наступивший в вечернем небе, словно никто уже и не поверил: от осеннего ненастья жители прятались по тёплым квартирам, туристы — по гостиницам и нарядным кафе.
Жёлтые круглые фонари, казавшиеся многократно повторенной луной, бросали отсветы на глянцевые камни мостовой, засыпанные жёлтыми листьями орешника, багряными — боярышника, охряными — рябин.
Нет, я не различала сейчас эти оттенки, приглушенные свинцовой тяжестью вечернего неба и залитые жёлтой краской фонарей, но я их помнила.
Они сами всплыли перед глазами, раскрасив дождливый вечер красками, а я остановилась в смятении, в потрясении, в прострации, когда увидела пару, что медленно шла на свет сужающегося впереди тоннеля улицы, словно уводящего их за собой.
На свет, что, казалось, вёл в бесконечность. В ту далёкую сказочную страну, куда открывалась дорога только избранным. Тем, что нашли друг друга.
Острым стаккато звенели по камням каблучки женщины.
— Тук! Тук! Тук!
Словно сердца стук.
Мягко ступали туфли мужчины.
Звуки шагов оттенял их голоса. Флейтой. Флажолетом: таким особым полным звуком, когда зажатая ровно посередине струна звучит и как две половинки, и как одно целое сразу.
Женщина и мужчина.
Его бархатный баритон. Звонкие колокольчики Её смеха.
Лёгкая. Стройная. Неземная. Воспетая поэтами. Она словно и не шла. Это земля двигалась, любезно подставляя бока влажной мостовой под её благословенные ноги, как большое урчащее от удовольствия животное подставляет чешуйчатый бок, чтобы его погладили.
Красивый. Сильный. Загадочный. Он! Долг. Доблесть. Достоинство. Умный, надёжный, верный. Готовый сразиться с чудовищем и достать луну с неба. Рыцарь на белом коне с розой за пазухой и варвар, беспощадный к врагам. Способный развязать войну, заключить мир, броситься в огонь и в воду, и выжить в любом аду, лишь потому, что она ждала.
Я забыла кто они. Я не видела лиц — ведь они уходили от меня.
Я запамятовала зачем пришла.
Я просто видела мужчину и женщину. И волшебство, что их преобразило, так зримо, осязаемо и совершенно.
Грудь сжала тоска.
Они не обнимались. Не держались за руки. Они даже шли в шаге друг от друга.
Но он вдруг потянулся и сорвал ей с дерева одинокий лист. Она смахнула с его волос упавшую с качнувшейся ветки соринку. Уронила сумочку. Он поднял. Она поправила его сбившийся шарф.
Танец тел. Пантомима чувств. Театр эмоций.
Они словно сошли со случайного снимка. Сделанного фотографом в любой точке мира. На Елисейских полях в Париже. На Английской набережной в Ницце. На любом променаде в мире они выглядели одинаково. И угадывались безошибочно…
Влюблённые.
Те, что в круговороте дней, дождей и метелей всё же дождались друг друга.
И все остальное для них перестало существовать.
А я думала сегодня ничто уже не сможет испортить мне настроение.
Я думала несделанное Целестине предложение — худшая из новостей за сегодняшний замечательный день. А эти двое — я ведь должна порадоваться за них: они были такой красивой парой. Но я замерла в оцепенении, осознавая весь ужас того, что происходит.
Нет, нет, нет! Пожалуйста! Только не сейчас! Только не это!
Умоляла я толи уходящих по улице Ивана и Сашку, толи злое провидение, выбравшее свести их вместе именно сейчас, когда это было так некстати, толи свою злую судьбу, снова и снова испытывающую меня на прочность.
Нет! Пожалуйста! Нет!
Взмолилась я в очередной раз за сегодняшний день.
Пусть мне показалось! Пусть я всё себе придумала!
Но всё это было уже напрасно. Тщетно. Бесполезно.
И кто там наверху, словно желая показать всю несостоятельность моих надежд, заставил их остановиться.
Иван подтянул Сашку к себе, положил руки на талию, заглянул в глаза и… обнял.
Обнял так, что у меня остановилось дыхание. И сердце перестало биться, когда она зябко прижалась к нему и замерла.
Нет, мне не показалось, когда Сашка сказала: «Поверь, когда находишь одного, того самого, то о других уже не думаешь».
Она его нашла, того, кто нужен один и на всю жизнь.
И Диане не показалось, что между ними что-то происходит. Она выросла с Иваном, она знала брата как облупленного и не зря беспокоилась.
Он её нашёл, ту, что всё же покорила сердце этого красавца.
— Жень! — окликнул меня Антон. И боюсь, застывшая, онемевшая, оглохшая, я услышала его не сразу.
Поспешно развернулась. И, словно желая защитить от его глаз то, что сама сейчас увидела, поторопилась в обратном направлении.
— Я хочу домой, — подхватив за руку, я не дала ему обернуться. — Дианку нашёл?
— Да. Посадил в кафе. Она заказывает нам кофе.
— Вы тогда оставайтесь, а я поеду.
— Жень, что случилось? — всматривался в моё лицо Бринн.
— Не спрашивай. Пожалуйста! Просто посади меня в такси, — посмотрела я на него умоляюще.
— Давай я тебя отвезу, а потом вернусь за Дианой.
— Нет, — упрямо покачала я головой. — Мне очень надо сейчас побыть одной. Хорошо?
Он молча кивнул.
И молча захлопнул за мной дверь подъехавшей меньше чем через минуту машины.
Но, кроме того, что, кажется, ничего у нас не получится — Сашка никогда не вернётся к мужу, Барановский скоро об этом узнает, а мне придётся выбирать между счастьем сестры и свободой мужа, — у меня была ещё одна веская причина сейчас избегать компании.
Я поняла, что ещё меня беспокоит с самого утра. Откуда вся эта тошнота и какое-то непонятное нездоровье.
— Остановите, пожалуйста, у аптеки. Я буквально на пару минут, — попросила я.
— Да, конечно, — легко согласился вежливый водитель.
И приятная улыбчивая девушка в белом халате, пробив чек, сунула в шелестящий пакетик мою покупку — тест на беременность.
Глава 12. Моцарт
Яркий свет слепил.
И не было никакой возможности ни отвернуться, ни закрыться от него.
Но я и не хотел. Это был белый свет жизни — яркие лампы тюремной медсанчасти. Я был несказанно рад, что снова его вижу. И ещё больше тому, что мне всё это не приснилось, когда рядом знакомо затянули:
— Спрячь за решёткой ты вольную волю… Выкраду вместе с решёткой…
— Куплет про девчонку мне нравится больше, — прохрипел я и закряхтел от боли.
Я думал бок болел, когда мне отрезали половину печени, но то была щекотка по сравнению с тем, как он болел сейчас, когда ребро разрубила заточка, а из лекарств здесь был, наверное, только просроченный анальгин. Его мне и кололи.
Но это ничего, потерплю.
Главное, что я жив. А ведь уже и не надеялся.
Сколько мог в ту ночь, когда получил предупреждение, я боролся со сном. Всё думал: это он меня предупредил, что готовится покушение, или решил намеренно нагнать страху, чтобы я ссал, нервничал, дёргался, не спал. Только это бесполезно — он меня всё равно замочит.
Сколько мог не позволял поглотить себя вязкой сладкой дрёме. Но к утру, когда за окнами уже забрезжил рахитичный рассвет, всё же задремал. И проснулся за секунду до того, как в бок мне вошла чёртова железка.
Я успел схватить руку. Я успел увидеть лицо того, кто склонился над моей постелью. Успел даже выкрикнуть, в тщетной надежде, что он остановится:
— У тебя есть внучка! Она жива, наша…
Напрасно. Меня ослепила, оглушила, выгнула боль.
Не знаю взвыл я, заорал.
Кто-то из сидельцев-однокамерников уже долбил в дверь. Кто-то посильнее натягивал на голову одеяло. Кто-то кричал:
— Охрана! Помощь нужна! Тут человек на штырь напоролся. Вы посмотрите, что делается! Да что же вы, ироды, таких кроватей понаставили, что человек во сне бок себе распорол!
— Ай-яй-яй, какой железка торчать! — причитал старый узбек в тюбетейке. Этот явно был из подсадных. Безобидный такой, в полосатом халате. Я запомнил его с обезьянника. Мы вместе просидели часов шесть, и он всё пытался меня разговорить. Всё вопросы задавал.