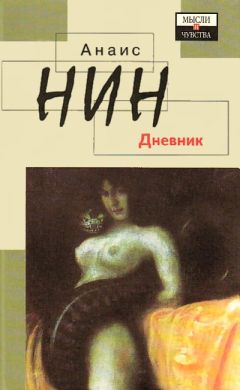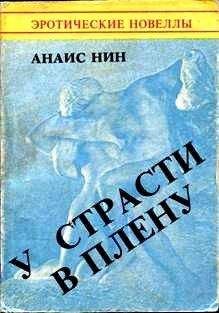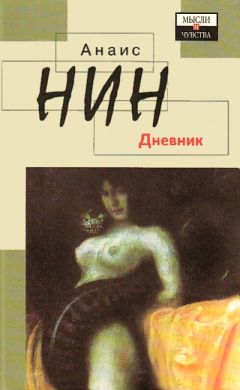Как справиться с этой трагедией, прячущейся в каждом часе нашей жизни, которая неожиданно и вероломно душит нас, выскакивая, как из засады, из какой-то мелодии, старого письма, книги, цвета платья, походки незнакомого прохожего? Твори литературу! Ищи в словаре новые слова, замешивай на своих слезах форму, стиль, слог, риторику. Аккуратно подбирай газетные вырезки, пользуйся цементным клеем, бери свои фотографии. Рассказывай всем и каждому, сколь многим ты им обязана. Внушай своему издателю, что он открыл гения, а потом возвращайся к своей работе, терзайся, как скорпион, попавший в огненное кольцо, и убивай себя своим ядом.
Если бы китайцы не открыли, что мудрость есть отсутствие идеалов, я бы совершила это открытие сегодняшней ночью.
За работой я впадала в отчаяние, понимая, что отдала Генри все мои разгадки Джун и он пользуется ими. Прихватив все мои эскизы, он пишет свой собственный портрет Джун. Я осталась с пустыми руками, и он отлично это понимает, ведь сказал же он: «Я чувствую себя воришкой». И с чем же мне теперь работать? А он дополняет свое полотно всеми деталями, полученными от меня.
Что же мне остается делать? Идти туда, куда Генри путь заказан, в миф, в сны, в фантазии Джун, в ее поэзию. Писать как женщина и только как женщина. А начинаю я со сновидений, ее и моих. Это принимает знаменательную форму, ближе к озарениям Рембо, чем к обычному повествованию.
Когда жизнь становится слишком трудной, я кидаюсь к моей работе. Я плыву в новых потоках. Я пишу о Джун.
Генри потребовал от меня невозможного. Я должна подпитывать его концепцию Джун, быть суфлером его книги. И когда я вижу, что с каждой новой страницей он все более воздает Джун должное, все более и более постигает ее суть, я чувствую, что это моим видением проникся он, мои взгляды он позаимствовал. Ничего не скажешь, ни от одной женщины не требовалось так много. Я все-таки человеческое существо, а не богиня. Но я считаюсь понимающей женщиной, и потому от меня ждут, что я все пойму и все приму.
Сегодня я подумала о бегстве. Писать поэмы, создавать мифы недостаточно. Я задумываюсь об уроках Альенди. Многие мои поступки подсказаны его мыслями. Это он научил меня пониманию, что мир необъятен, что не должна я быть рабой наложенного в детстве проклятия, не должна стелиться перед всяким, кем бы он ни был, взявшимся играть, в мажоре ли, в миноре, отчасти или полностью, роль чертовски необходимого мне отца. Не надо мне быть беспомощным ребенком или женщиной, покорной до самоуничтожения.
Вчера явился Генри. Серьезный, усталый Генри. Он не спит уже несколько ночей — так захвачен своей книгой.
Измучен он совершенно, и я забыла о своих литературных мятежах.
— У меня есть вино, — сказала я, — давай посидим за ленчем в саду. Я ведь тоже много поработала, кучу всего должна тебе рассказать, только чуть-чуть подожди.
Эмилия накрыла стол в саду. К нам присоединился Хоакин, а потом мы остались вдвоем и начался разговор.
Бедняга Генри, бледный, напряженный, а глаза голубые-голубые, непорочные глаза.
— Пишу книгу, — сказал он, — и понимаю, что между мной и Джун все умерло года три-четыре назад. То, что мы протянули до последнего времени, когда она была здесь, было механическим продолжением. Вроде затянувшегося импульса, который все не может окончательно затухнуть. Конечно, это был страшный опыт, перевернувший мою жизнь. Вот почему я пишу о ней с таким бешенством. Но то, что я пишу сейчас, — моя лебединая песня…
А потом он добавил:
— Конечно, я смог все это пережить, но именно потому, что я это пережил, я с этим кончаю. Я чувствую, что я сильнее Джун, но все-таки, если Джун сюда вернется, все может начаться снова, это какой-то рок. Все, чего я сейчас хочу, так это спастись от Джун. Не хочу снова чувствовать себя ограниченным, униженным, сломанным. Я вижу, что мне необходимо порвать с нею. Боюсь ее возвращения, того, что это развалит все, что я выстроил, всю мою работу. А вот ты — мне сейчас ясно, сколько времени и внимания отдаешь мне ты. С тобой всегда можно решить любую проблему, и ты помогаешь мне всегда бескорыстно. А кроме того, ты пишешь, пишешь глубже и сильнее, чем кто бы то ни было, умеешь увидеть то, на что другой и не обратит внимания, касаешься совсем неизведанных тем, недоступных другим.
* * *
За эти дни я написала почти тридцать страниц возвышенной прозы в образной, метафорической манере, настоящий лирический взрыв[45].
Генри озадачен моими страницами. «А что за этим плетеньем узоров? — спросил он. — За этим красивым языком?» Меня расстроило его непонимание. Я принялась объяснять. «Так ты должна была дать ключ, а то вдруг кинула нас в совсем непривычное. Это же надо по сто раз перечитывать».
Сам он пишет о Джун очень реалистично, напрямую. Но я-то чувствую, что таким путем в нее не проникнешь. Я выбрала путь сюрреализма. Я пишу ее сны, ее фантазии, пишу миф о Джун. И нет ничего в этом мире непостижимого, ничего, что не поддается расшифровке.
Генри уже собрался уезжать на своем велосипеде, но передумал и с типичной для него доскональностью решил добраться до сути написанного. Он расхаживал взад-вперед, вникая в мои абстракции…
Я вижу символику наших жизней. Живу на двух уровнях — обыденном, человеческом и поэтическом. Мне понятны и близки иносказания, аллегории. Генри — закоренелый реалист, а я, чувствую, могу подняться в стратосферу и разглядеть мифологию Джун. Мне хочется описать оттенки, блики, передать скрытые намеки. Все факты, относящиеся к Джун, никак не могут помочь моему визионерскому восприятию сути ее подсознания. Я провожу дистилляцию, а вовсе не вышиваю парчу; здесь все полно смысла.
Чем больше я говорила, тем в большее волнение приходил Генри. Наконец он сказал, что я должна продолжать в том же духе, что я создала нечто уникальное, что если кто-то пишет по-сюрреалистически, то это прежде всего я. Потом он остановился на этом подробнее. Он не мог бы дать определение тому, что я сделала. Нет, пожалуй, это не сюрреализм. Это более сложная концепция, более широкий охват, более определенное отношение. Нет, не нужно никакой подготовительной работы, не надо просить ключей к разгадке. Он понял, что я создаю нечто неповторимое. Он прочтет это еще раз, и смысл ему откроется.
Глядя в окно, он произнес:
— Как мне теперь возвращаться в Клиши? Это все равно, что в тюрьму возвращаться. Вот здесь можно дышать, расти, здесь просторно.
Теперь он начинает превращать пережитое в страницы книг, и тем самым куда острее чувствует то, что пережито.
От объективности Альенди ничего не осталось. Он начинает вслух осуждать Генри. Я пробую обрисовать ему контраст между двумя Генри; вот один — пьяный, краснорожий, драчливый, самоуверенный, бессердечный, весь из инстинктов и животных импульсов; а вот другой — трезвый, собранный, рассудительный, по тону почти монах, бледный, мечтательный, сентиментальный, ребячливый, хрупкий. Поразительно полная трансформация! Но у Альенди другое название этому, научный термин: раздвоение личности, шизофрения.