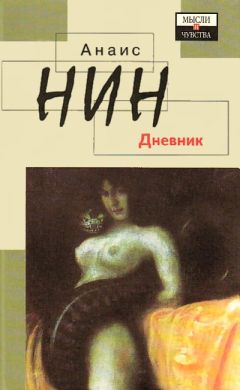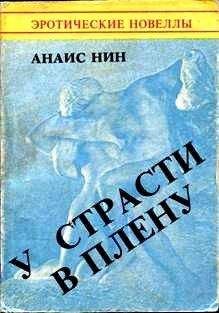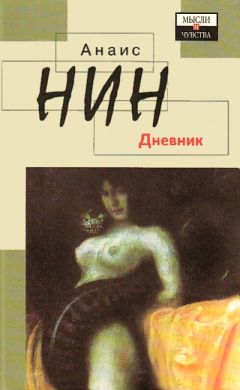Глядя в окно, он произнес:
— Как мне теперь возвращаться в Клиши? Это все равно, что в тюрьму возвращаться. Вот здесь можно дышать, расти, здесь просторно.
Теперь он начинает превращать пережитое в страницы книг, и тем самым куда острее чувствует то, что пережито.
От объективности Альенди ничего не осталось. Он начинает вслух осуждать Генри. Я пробую обрисовать ему контраст между двумя Генри; вот один — пьяный, краснорожий, драчливый, самоуверенный, бессердечный, весь из инстинктов и животных импульсов; а вот другой — трезвый, собранный, рассудительный, по тону почти монах, бледный, мечтательный, сентиментальный, ребячливый, хрупкий. Поразительно полная трансформация! Но у Альенди другое название этому, научный термин: раздвоение личности, шизофрения.
Я цитирую ему слова Генри: «Господи, каким же слепцом я был раньше!»
— Вам необходимо избавиться от такого окружения, — отвечает доктор Альенди. — Очень вредна для вас такая среда, ma petite Anais[46].
Снова я пришла к Альенди. Предложила прекратить наши сеансы и навестить нас в Лувесьенне. Он ответил, что это никак невозможно, пока он не будет уверен, что я «выздоровела». Мы поговорили на тему подавления одного человека другим. Я ощущаю его силу и уверенность. Он как-никак руководит мною, ведет меня. А вот Генри меня как раз расстроил тем, что он написал по поводу моих тридцати страниц лирики в прозе. Это не страницы Генри, это передразнивание меня. Сатира. Бессмысленное издевательство. Зачем? Понимает ли он, что сотворил карикатуру? Понимал бы, я бы его таким и приняла.
Стало быть, он высмеивает то, что ему непонятно? Таким способом хочет завоевать то, что не дается ему в руки? Альенди не объясняет. Но всякий раз при упоминании о Генри он хмурится.
Альенди написал книгу об алхимии, он занимается астрологией. А вот пьесы и романы не читает — они кажутся ему скучными и бесцветными в сравнении с той жизнью, о которой ему рассказывают книги в его маленькой, тускло освещенной библиотеке. И о его жизни мне ничего не известно. Однажды я упрекнула его в том, что, будучи ученым, он совсем не понимает людей искусства. Да нет, ответил он мне, я ошибаюсь. У него много друзей среди людей искусства, а его свояченица была художником. Ей устроили студию на верхнем этаже их дома, она там и жила.
У Альенди глаза провидца. Улыбка сияет великолепными зубами, рот несколько женственный. И выглядит очень уверенным в себе.
Все разговоры Генри с Джун, рассказывает он мне, обычно заканчивались ожесточенными схватками. Джун ухитрялась высказывать-такие обидные вещи, что Генри чуть ли рассудок не терял от отчаяния и гнева, а теперь он видит, что все эти грандиозные битвы были пустыми, бесплодными, делавшими его разочарованным, не способным не то чтобы работать, а даже просто жить. У нее был какой-то особый дар все испортить, все изломать, не задумываясь даже, просто инстинктивно.
Начать писать о Джун подтолкнула одна зажегшая меня фраза из Юнга: «Прорваться из сна в действительность…»
Сегодня, когда я повторила эти слова Генри, он очень разволновался. Он записывал для меня свои сны, а потом старался определить их корни, найти ассоциации.
Во время нашей беседы о снах Генри сказал: «Я уяснил себе, что я человек довольно крепкий и не сдамся никому».
Альенди ошибается, не принимая всерьез мои творческие устремления. Писательство, литература, творческий риск — для меня не игрушки. Меня трогает его отеческое покровительственное отношение, но в то же время и смешит. Строго ограниченная искренность людей, подобных Альенди, не вызывает во мне такого интереса, как Генри с его неискренностью, спектаклями, враньем, литературными эскападами, экскурсами в неизведанное, дерзкими экспериментами, с его отвагой и нахальством. В самой своей основе я могу быть доброй, человечной, любящей, да и не только такой, а гораздо больше: человеком сложным, с удвоенной фантазией; я могу быть иллюзионистом.
Возможно, Альенди ведет наши разговоры, чтобы успокоить свои сомнения. Он упирает на мою хрупкость, на мою наивность, тогда как я, повинуясь глубокому инстинкту, избираю тех людей, кто будит во мне энергию, очень многого требует от меня, обогащает меня опытом и болью, не сомневается в моей отваге и твердости людей, подобных Генри и Джун, не считающих меня наивной и непорочной, бросающих вызов моей проницательной премудрости, людей, у которых хватает смелости обращаться со мной как с женщиной, невзирая на то, что они прекрасно осведомлены о моей уязвимости.
Щедрое лето
Лето 1932 года для Анаис, казалось бы, небогато событиями. Дневниковые записи за май — июль состоят из описаний сеансов психоанализа у доктора Альенди, пересказа разговоров с Г. Миллером о Джун и рассуждений о литературе. Это на поверхности, но углубишься в это лето, и открываются сокровища.
Записи в «Дневнике» — почти протокольные отчеты о психоаналитических сеансах, сопровождаемые комментариями пациента — дают нам редкую возможность заглянуть в лабораторию психоаналитика, который, как правило, сохраняет свои заметки и содержание бесед с пациентом в тайне. В сеансе психоанализа (во всяком случае, в первые годы его становления) участвуют только двое — врач и пациент. Теперь на этот сеанс приглашены и мы.
Психоанализ — открытый великим австрийским психиатром и психологом Зигмундом Фрейдом (1856–1939) психотерапевтический метод и выросшая на основе этого метода разработанная Фрейдом теория психической жизни человека. Мы не будем подробно излагать теорию Фрейда, но несколько слов о ней необходимы. Фрейд утверждал, что в основе психической жизни человека лежат влечения, имеющие органический характер, именно они являются основными силами, определяющими активность психической жизни. Эти влечения не осознаются человеком, они находятся в области бессознательного. Основным из них Фрейд считал половое влечение, или «либидо». К нему присоединяются влечение к власти, к значимости и, наконец, к смерти.
Психоанализ коллекционирует и анализирует сны, ошибочные действия, оговорки, невольные ассоциации, стремясь проникнуть в глубины бессознательного, определяющего сознательную жизнь. Казавшееся всесильным человеческое «я» на самом деле марионетка бессознательного; осветив его, человек сможет над ним господствовать.
Какими же были приемы этого «освещения»? В чем заключалась практика психоанализа?
Психоаналитик предлагал пациенту длительно, в совершенно спокойном, «пассивном» состоянии высказывать все те мысли и ассоциации, которые, казалось бы, случайно приходят ему в голову, ничего не задерживая и по возможности ничего активно не меняя в их течении. Это длительное «свободное ассоциирование» приводило обычно к тому, что круг ассоциаций сужался вокруг тех переживаний и конфликтов, которые когда-то испытывались пациентом, а затем были им забыты, вытеснены из сознания. Всплывание этих переживаний в сознании вело к их трезвому осмысливанию и преодолению.