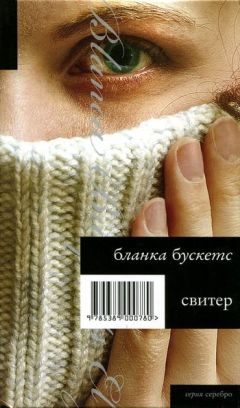От каких-то дешёвых сигарет, купленных в ларьке возле её дома, гудит и кружится голова, а противный кисловато-горький запах табака пропитывает пальцы и не желает уходить, сколько бы я не тёр их с мылом, упираясь лбом в прохладное зеркало в туалете нашего вагона. Каждый раз я срываюсь покурить в тамбур, чувствуя, что подхожу к точке собственного плавления и не могу больше находиться с ней в одном купе и сохранять внешнюю невозмутимость, не произносить ни единого звука, ведь мне хочется орать на неё, чёртову упрямую сучку. Но за несколько минут на совсем незначительном расстоянии меня только клинит ещё сильнее, и обратно я врываюсь с желанием немедленно прижать её к дермантиновой поверхности и целовать так, чтобы она похотливо извивалась и скулила подо мной.
Ничего не осталось от того романтика, что два месяца собирал все самые красивые цветы, не решаясь подарить их понравившейся девочке, и тайком подсовывал их в её любимые книжки. Надеялся, что обнаружит, поймёт, догадается обо всём. Тянул до последнего, сомневался, отчаянно желая сделать для неё что-то особенное.
И опоздал с самыми главными словами на целых десять лет.
Мама с первых лет жизни вбивала мне в голову столько возвышенно-прекрасной чепухи, приучала меня к прекрасному, как заведённая говорила про любовь, и я впитывал всё, словно губка. Чтобы потом, сполна окунувшись в реальную жизнь, где чувства зачастую ничего не значили, становились слабостью или использовались как разменная монета для обеспечения себя сексом, возненавидеть все её наивные, глупые рассуждения.
Потом я прошёл через стадию смирения, признав, что она и сама была просто ребёнком, искренне верившим в чудеса и умевшим видеть свет там, где всё затягивало пеленой чёрного смога. У неё получилось сохранить в себе надежду, несмотря на все выпавшие ей испытания.
А у меня — нет. Так я думал вплоть до одной встречи, встряхнувшей меня и перевернувшей весь мой фальшивый мирок, пропитанный жалостью к себе и держащийся только на смаковании собственной боли и обиды.
На этот раз Маша не выходит на редких, непродолжительных остановках поезда. Она вообще почти не шевелится, изображая из себя каменное изваяние, чем бесит меня всё сильнее. Словно специально подбивает на новые необдуманные и опрометчивые поступки, ловко манипулирует тем, что у меня не получается выносить её равнодушие. Что угодно, только не его.
И только вернувшись с десятого по счёту перекура и равнодушно вышвырнув полностью приконченную меньше чем за полпути пачку от сигарет, я обнаруживаю её уже лежащей на тщательно заправленной постели. Прямо в одежде, с накинутым поверх пододеяльником и лицом к стеночке, как и положено хорошим и правильным девочкам.
Почему ты такая сука, Маша?
И почему мне так сильно это нравится?
Она засыпает быстро: сказывается напряжение последних дней, беспощадно порубивших нас обоих на куски, собрать которые теперь кажется невозможным. Во сне ёрзает, переворачивается на спину, руками с силой стискивает подушку, беспомощно держится за неё. Грудь ритмично поднимается и опускается, и я всем телом наваливаюсь на столик между нашими сидениями, чтобы разглядывать её лицо.
Безмятежное. Спокойное. Красивое.
Память отбрасывает меня на три года назад, в один из особо пасмурных осенних дней, в угнетающе-серое здание больницы, в небольшую палату с дешёвым, зато свежим ремонтом. Позже ей скажут, что мест в обычных палатах на шестерых не хватило, поэтому руководство жестом доброй воли отправило её в платное крыло.
Четыре часа — столько, по заверению врачей, она должна была крепко спать после данного во время операции наркоза. Только три позволил себе я, понимая, что даже еле живая Маша Соколова не обрадуется, обнаружив меня рядом с собой.
На улице постепенно смеркалось, пьяный ливень яростно молотил по окну, не желая успокаиваться, а я сидел рядом и держал её прохладную бледную руку в своих ладонях, не отводя взгляд от лица. Видел его так близко, так подробно, так дурманяще доступно спустя столько времени. Заново знакомился с ней, моей Машей. Именно тогда точно решил для себя: моей.
И сколько бы ещё десятков лет не понадобилось для этого, я буду ждать, пока она сама придёт ко мне. Пусть ненавидит, пусть не прощает, пусть продолжает пытать меня, то позволяя дышать собой, то прогоняя прочь. Главное — будет рядом.
Я же вижу, знаю, чувствую, что ей нужно это не меньше, чем мне. Вся наша жизнь снова сосредоточилась только в нескольких предрассветных часах, в общей кружке кофе, на ручке которой мы чувствуем тепло пальцев друг друга, а на ободке — будоражащую влагу губ; в редких моментах, когда она позволяет себе быть слабой и уязвимой, а я — абсолютно откровенным. В случайных, неслучайных, взрывоопасных прикосновениях.
От внезапного лёгкого стона моё сердце словно прошибает мощным разрядом дефибриллятора, и, действуя на чистых инстинктах, я перебираюсь ближе к ней, как обычно присаживаюсь в ногах, осторожно тяну руку к её лицу.
Поезд чуть покачивается из стороны в сторону, разогнавшись до максимальной скорости, проносится через какую-то маленькую станцию, освещённую парой фонарей — их свет мелькает яркими пятнами в вечернем сумраке и падает на нас всего на одно мгновение, когда подушечки моих пальцев уже ложатся на чуть прохладную щёку. И под этой тёпло-жёлтой вспышкой я отчётливо вижу сладкое томление на её лице.
На этот раз ей снится вовсе не кошмар.
Дыхание срывается, сбивается, становится таким же, как у неё: поверхностным и быстрым. Не отрываясь от её щеки, касаюсь большим пальцем уголка губ, чуть надавливаю на него и резко выдыхаю из себя всю жизнь, когда она быстро прихватывает его губами и вбирает в рот.
Из всех возможных способов умереть — этот самый лучший.
Палец погружается в горячую и влажную глубину, и я с трудом удерживаюсь от того, чтобы закрыть глаза: завороженно наблюдаю за ней из-под полуопущенных ресниц, облизываю пересохшие губы и сдерживаю стоны, сильными спазмами собирающиеся в груди с каждым медленным, скользящим движением влажного языка вдоль подушечки, по второй фаланге…
Член так каменеет, что тяжело сказать, чего больше приносит это возбуждение: удовольствия или боли. И я громко выдыхаю, сцепляю зубы и резко убираю руку, повторяя про себя, что так нельзя.
А она с новым стоном-всхлипом тянется следом за моей рукой, и выгибается всем телом, и я вижу, как самый кончик языка касается нижней губы, пытаясь догнать меня. Хрупкое «нельзя» лопается и осыпается вниз воспоминанием о пронзительном звоне стекла, насквозь пробитого кулаком, о глухих шлепках на пол капель крови, о собственном нечеловеческом вое, крике, плаче с одним-единственным именем, пульсирующим в каждом ударе сердца.
Ма-шень-ка.
Грубо толкаю ей в рот сразу два пальца прямо до основания, а второй ладонью уверенно отбрасываю в сторону тонкий пододеяльник и тут же ныряю прямиком под пояс джинс, не обращая внимание на затухающую мысль о том, что удобнее сразу расстегнуть их. Но не теперь, не сейчас. Слишком мало времени.
Я пылаю. Сгораю заживо, больше не пытаясь сопротивляться огню внутри, а смиренно склоняя перед ним голову и принимая свою одержимость ею как данность.
Скольжу ладонью между ног, которые она беспрекословно раздвигает в стороны и сгибает в коленях, с нажимом провожу по клитору, выбивая из неё приглушённый моими пальцами звук удовольствия, и, не мешкая, погружаюсь внутрь. Всего на одну фалангу, опасаясь причинить боль, но и этого оказывается достаточно, чтобы снова зажмуриться от удовольствия, ощущая, как она стремительно становится влажной прямо вокруг меня.
Наступает мой личный конец света. Ад и рай — всё здесь, в этом тёмном маленьком купе, где меня убивают собственные желания.
Намеренно двигаюсь резко, порывисто. Хочу дать ей проснуться как можно скорее и остановить меня, раз самому мне это уже не под силу.
И у меня получается. Она обхватывает ладонью предплечье неторопливо трахающей её руки, подушечками надавливает аккурат на глубокий, сильно ощутимый рубец шрама и стихает, замирает, сжимается. От её слюны порезы на пальцах снова начинают саднить, наверняка наполняют рот привкусом моей крови, заливают язык, до сих пор плотно прилегающий к ним.