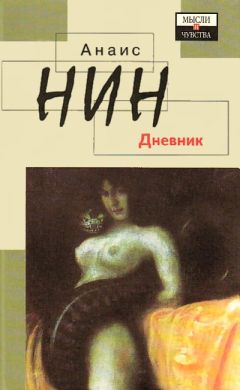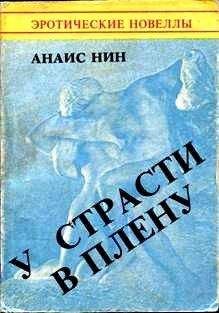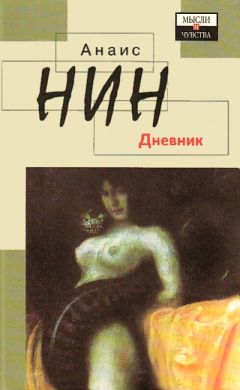Все это невероятно: интерес к моему раннему дневнику, предоставление его Альфреду Кнопфу (тому самому, который отверг мою книжку о Лоуренсе). Брэдли все время касается вопросов здоровья, из-за того, наверное, что натыкался в дневнике на упоминания о плохом моем самочувствии. Спрашивает, не устаю ли я от его визитов. Меня его восхваления даже пугают. Я нервничаю, хотя тронута его благожелательностью, благородством. Он взглянул на фотографию Джун и сказал, что она выглядит выдуманной, ненастоящей, фальшивой. Она деланная, претенциозная, а в сущности пустышка. «Отвратительная вещь нравственная косметика», — закончил он сентенцией.
В присутствии таких людей, как Брэдли, я сама начинаю чувствовать себя подделкой, и все мои дневники и книги тоже кажутся мне фальшивыми. Когда кто-то восхищается мною, я думаю, что дурачу всех. Начинаю складывать в уме все мои обманы, и меня бьет дрожь. Я должна сказать себе: «Либо я еще более искусная лгунья и актриса, чем Джун, либо я такова на самом деле». Слишком много людей, людей недоверчивых и проницательных, инстинктивно верят мне. Простодушные люди, ненавидящие искусственность, строгие, нравственные люди. Такие, как Брэдли.
И я вижу, что вопрос о моей искренности, если я буду терзаться им постоянно, может завести меня очень далеко, прямо в больницу для душевнобольных. Мое воображение безнадежно запутало меня. Я теряюсь. Особенно мучительно сознавать, что я, кажется, играю чувствами других. Джун упрекала Генри за то, что в их отношениях он взял себе роль «жертвы». Я часто спрашиваю себя, а не была ли Джун самой искренней из нас, раз ее так легко можно было уличить во лжи.
Отец приехал.
Я ожидала увидеть его таким, как на фотографии, только с более открытым лицом. Менее изборожденным морщинами, менее маскообразным, но новое лицо мне понравилось: резкость черт, крепость подбородка, женственность и обаяние улыбки, тем более удивительные в контрасте с дубленой, как пергамент, кожей. Улыбка делает заметней ямку на щеке, собственно, это не ямка, а шрам, оставшийся от падения в детстве на острые прутья лестничных перил. Аккуратная, плотная фигура, изящество, энергичные жесты, легкость, моложавость. Какой-то неуловимый шарм. И величайший, не стыдящийся себя эготизм. Разговор он ведет так, словно обороняется от непроизнесенных обвинений, оправдывает всю свою жизнь: любовь к солнцу, к Южной Франции, к роскоши, зависимость от мнения других, боязнь критики, впечатлительность, постоянное актерство. Остроумие и четкость выражений, сила образов, крепкая и яркая испанская образность, перенесенная во французский язык.
Когда-то он приехал из Испании во Францию, занимался у Венсана д'Энди, стал самым молодым профессором «Схола Канторум», как раз к тому времени я и родилась. Детская, обезоруживающая улыбка. И постоянное излучение обаяния. Прежде всего обаять. Таящаяся детскость, отсутствие чувства реальности. Мужчина, избаловавший себя (или избалованный женщинами?), ищущий противоядие против жизненных невзгод в роскоши, в салонной жизни, в эстетизме, и все же страдающий боязнью всякого разрушительного начала. Вынужденный быть общительным, светским, расширять круг знакомств, жить неустанно в поисках чувственных радостей и не знать других путей добиться желаемого, кроме как притворством. И страсть к творчеству. Концерты, композиторство, книги, статьи. Исследования забытой и редкой музыки, поиски талантливых людей и представление их публике («Агилар-квартет» из Аргентины, к примеру)[100].
Неужели этот источник чувств высушен претенциозностью, притворством, актерничаньем? Станет ли мой двойник двойником дьявольским? Он воплотил в себе все опасности моей иллюзорной жизни, моих придумываний ситуаций, моих мошенничеств, моих ошибок. Но тогда он — карикатура на меня: ведь мои поступки мотивировались сильными чувствами, а у него цели суетные, земные. В его жизни главные роли принадлежали публике, концертной эстраде, критикам, светским и титулованным друзьям, салонам, церемониям. А то, что было во мне человеческого и теплого (моя мать?), жило совсем другими ценностями, истинными ценностями. А у него — демонстрация напоказ, одежда, деньги. Другие люди его не интересовали. Это был чуть ли не цинизм.
— Ты теперь говоришь и пишешь на языке, которого я не знаю. И ничего не знаю о твоей жизни в Америке, что ты там делала. Твоя мать очень ловко увезла тебя подальше от меня, ей надо было сделать нас чужими друг другу. Она знает, что я не люблю Америку, даже боюсь ее. Что я не знаю английского. Le pays du «bluff»[101].
— Но вы же могли приехать повидаться с нами, могли приехать с концертами. Мне говорили многие, что вас приглашали.
— Да, это верно, я бы мог приехать, когда вы еще были детьми. Но меня пугала Америка. Слишком там все по-другому.
Я понимала, что он ищет сходства между нами.
— Ты любишь хорошо одеваться?
— Я люблю одеваться оригинально, по-своему, а не по моде.
— А садом заниматься любишь?
— Но не засучив рукава.
Мы оба рассмеялись.
Когда он начинает рассказывать о себе, я вижу, как старается он создать свой идеализированный образ. Ему хочется самому поверить, что он человек добрый, отзывчивый, благородный, альтруист. А ведь столько людей говорят о его эгоизме, о том, что он не посылает денег своей матери в Испанию, жалуется, что нет у него таких возможностей, а между тем курит сигареты с золотым обрезом, носит шелковые рубашки, обзавелся роскошным американским автомобилем и живет в фешенебельном районе Парижа в арендованном особняке.
Мы оба всматриваемся в зеркало, ищем подтверждения нашего кровного родства и тождественности.
Мы аккуратны, это заметная наша черта. Хотя часто нами движут непреодолимые порывы, но мы оба испытываем потребность в порядке вокруг нас, в нашем доме и в жизни, словно порядок в наших шкафах, бумагах, книгах, в наших фотографиях, в воспоминаниях и в одежде может предохранить от хаоса в наших чувствах, в нашей любви и в нашей работе.
Равнодушие к еде, воздержанность; но это, надо признать, попытка борьбы с нависающей над нами угрозой недолговечности.
«Воля, — произносит отец, выпрямляясь во весь рост. Воля к уравновешиванию, желание найти противовес внезапным порывам чувств, полетам лирических фантазий. Да, он тоже страдает романтизмом, донкихотством, цинизмом, наивностью, жестокостью, шизофренией, расщепленностью своего «я», мучается от dedoublement[102] и не знает, как синтезировать все это в цельность и единство.
Мы сочувственно улыбаемся друг другу.