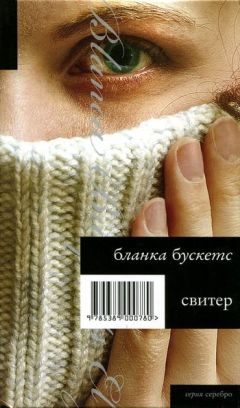Так ведь не бывает!
Мы тянулись навстречу друг другу. Примирялись губами, соприкасались, тёрлись, прижимались. Торопились и неуклюже стукались зубами; замедлялись и действовали по наитию, наощупь, пока ночь охотно прикрывала нас своим тёмным одеялом, позволяя ни о чём не думать и просто чувствовать.
Его поцелуи были неторопливыми, словно он пытался растянуть каждую их секунду. Трепетными, словно он наслаждался ими даже сильнее меня. Долгими, словно он боялся, что каждый из них может стать последним.
Он отрывался от меня лишь на несколько мгновений и делал пару глубоких вдохов, чтобы снова нырнуть вглубь захлёстывающих, бушующих ощущений, а я пользовалась этим временем, чтобы быстро облизать собственные губы и как следует распробовать остававшуюся на них горечь коньяка вперемешку с кислым привкусом спелой вишни. И открывала глаза, и всматривалась в его лицо, впервые оказавшееся настолько близко ко мне, и безумно хотела, чтобы он тоже открыл свои и встретился со мной взглядом.
Но стоило его ресницам только чуть дёрнуться, как начинала испуганно жмуриться, молясь о том, чтобы он ничего не понял и не оттолкнул меня от себя.
Прохладные пальцы разжались и выпустили мои онемевшие от крепкой хватки плечи, до обидного быстро пробежались по шее и зарылись в волосы, обхватывая мою голову жестом настолько уютным и родным, что защемило в сердце. А моей храбрости хватило только скользнуть ладонями вверх по груди и подушечками больших пальцев изредка осторожно касаться голой кожи сразу над воротом его футболки.
Губы жгло, пекло, пощипывало, и его язык с нажимом водил по ним. Лишь однажды соприкоснулся с самым кончиком моего, быстро и воровато нырнув в мой рот, и меня словно ударило молнией, которая мигом пролетела по всему телу, отозвалась в нём пугающе-приятной дрожью, растеклась по груди и животу густым теплом и лёгким покалыванием по коже.
Все ощущения усилились и обострились до предела, и даже то, как он изредка прислонялся своим лбом к моему, сильнее вжимал меня в матрас на очередном глубоком вдохе или чуть поглаживал затылок мизинцем, начинало казаться настолько острым, пронзительным, пьянящим.
Мне было так хорошо и спокойно, как никогда прежде. Вплотную к нему, с привкусом коньяка и вишни на зацелованных губах, под влиянием чувства, которое было слишком похоже на счастье.
И на любовь.
***
Меня растормошил рассвет. Застал с поличным, пригревшейся под боком у мирно спящего Кирилла, ударил по лицу, оставив на одной щеке пылающий, горячий след, привёл в чувство, ослепив на несколько мгновений.
Чтобы я могла открыть глаза и последний раз с наслаждением взглянуть на пушистые чёрные ресницы, растрёпанные сильнее обычного пряди каштановых волос и чуть приоткрытые во сне, ставшие вызывающе-алыми губы. А потом вспомнить, понять, почувствовать, что натворила.
Ночная духота прогретого докрасна воздуха и ласковое, вибрирующее в груди тепло исчезли, а на их место пришёл холод. Жестокий и неистовый, зловещий и безжизненный, с сырым и плесневелым могильным запахом. Он покрыл меня плотным слоем инея, сжал сердце жгуче ледяной ладонью, скинул с моего плеча чужую ладонь и позвал за собой, в спасительно-губительный лабиринт.
Я не помнила, как выскочила из гостиной. Замешкалась на пару мгновений в коридоре, чтобы сунуть ноги в потрёпанные балетки, и выбежала из квартиры прямо как была, в домашней футболке и шортах.
Хлопок входной двери нагнал меня уже на середине лестницы. Толкнул в спину, беспощадно швырнул вперёд, заставляя бежать ещё дальше и быстрее, как можно быстрее, чтобы никогда и ни за что не смогли догнать меня собственные совесть, гордость, страх. Чтобы наверняка скрыться от раздирающего меня сотней оголодавших гиен желания никуда не уходить.
Уже потом, на улице, поскальзываясь на влажной от росы траве и запинаясь о камни протоптанной через двор дорожки, я смогла понять, что дверь захлопнулась за мной, слишком испуганной, растерянной, спешащей, чтобы догадаться просто придержать её. И никто не собирался меня догонять.
Не в этот раз.
Я точно знала, куда мне нужно. Чувствовала это давно, еле сопротивлялась своей мании, зависимости, своим неправильным и недопустимым желаниям — тем самым, которым теперь сопротивляться было уже бесполезно. А огромный, мрачный хвойный лес ждал меня, принимал к себе охотно и с лёгким укором, как взбалмошного ребёнка, однажды потерявшегося и слишком долго искавшего обратную дорогу домой.
Ты пришла.
Частокол тонких коричневых стволов, устремлявшихся вверх, к самому небу, мельтешил перед глазами и выстраивался вокруг меня беспроглядными стенами огромного лабиринта. И я бежала, бежала по нему всё дальше, заходила ещё глубже в густую и тёмную чащу, из последних сил брела сквозь цепляющиеся за ноги острые сплетения корней, опавших ветвей, убогих карликов-кустарников, торчащих из земли.
Пока не закончилось дыхание, не разорвалось от боли сердце, не подогнулись от слабости колени, роняя меня на мягкую и сырую подстилку изумрудного мха.
Тише, тише.
Лес укрывал меня от реальности сплетением хвойных ветвей у самых макушек, не пропускающих вниз ненавистный солнечный свет, не дававших разглядеть издевательски-невинное, кристально-чистое голубое небо. Лес убаюкивал меня шорохом длинных и пушистых листьев папоротника. Лес сжимал меня в своих объятиях и помогал забыться, обдавая промозглым холодом мои губы, которые горели, жгли, болели так невыносимо, словно с них одним рывком содрали кожу.
Как я могла? Как допустила это?
Меня душило паникой, сдавливающей горло до боли, до почти слышного хруста, до привкуса крови в пересохшем рту, раздираемом кашлем и беззвучными рыданиями. А пальцы цеплялись за плечи, скребли по ним, царапали, так наивно и глупо надеясь скинуть оставленные им прикосновения.
Я понимала, что ничего уже не выйдет. Понимала, что это — навсегда. Понимала это так отчаянно давно, за многие часы, дни, недели до того, как оказалась здесь одна с желанием сгинуть навсегда, и задолго до мгновения, когда протиснулась в приоткрытую дверь гостиной и двинулась прямо к нему.
Дышать получалось еле-еле, через раз. Но мне больше не было страшно, напротив: единственным возможным спасением казалась мысль о том, что можно просто выдохнуть из себя всю эту боль вместе с безысходностью, с распирающей тоской, с унизительной жалостью к себе.
Нужно было умереть, чтобы перестать ждать и надеяться, что он придёт и заберёт меня отсюда. Спасёт от того, что мы натворили. Спасёт от самой себя.
Ты никогда не станешь нужной, Маша.
Нужно было умереть, чтобы вынести груз отвественности за свою ошибку, чтобы забрать с собой на тот свет чувство вины, чтобы сжечь предавшее меня и теперь искалеченное, ненужное, бесполезное сердце и зарыть глубоко в землю все ложные надежды.
Нужно было умереть сейчас, чтобы найти возможность как-то жить дальше.
И я умерла.
Как оказалось — слишком рано.
Когда я добралась до дома, его поезд уже медленно набирал ход, с предвкушением и радостью устремлялся в далёкую, недоступную, почти иллюзорно-фантастическую Москву, существовавшую будто в другой вселенной.
Вещей в коридоре больше не было.
Как и Кирилла.
Зато в спальне была Ксюша, испуганно вздрогнувшая и резко обернувшаяся при моём появлении. Она окинула меня оценивающим взглядом с ног до головы, чуть задержалась на моём побледневшем, напряжённом лице, и внезапно улыбнулась тепло, радостно.
Я ждала от неё нотаций, возмущения, недовольства по поводу своего побега, заранее готовилась отбиваться и защищаться, поэтому сбилась и растерялась, ощутив от неё что-то, слишком похожее на давно развеявшееся между нами понимание. И захотелось просто подойти, обнять её крепко и сказать, как сильно она мне нужна.
— Смотри, что мне оставил Кирилл, — изящная рука с зажатым в ней клочком бумаги взметнулась вверх и остановила меня на половине опрометчивого и поспешного движения к ней навстречу.