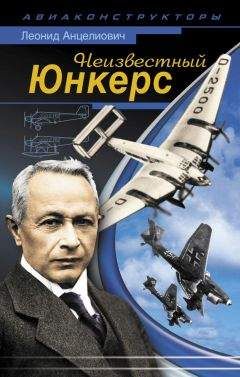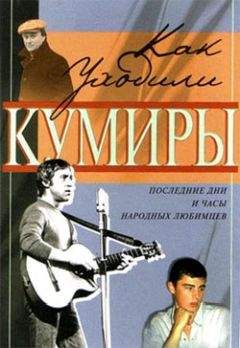Музыка старого баяниста была похожа на него самого. Кешка замирал, слушая ее, иногда в совершенно невероятной для городского жителя позе, вызывавшей опасливое любопытство прохожих (большинство принимало его за наркомана, но некоторые имели в виду и что-то психиатрическое). Перед закрытыми кешкиными глазами вставали чудные, зачастую ему самому непонятные видения. Вот множество людей в одинаковой одежде стройными рядами движутся куда-то, печатая шаг и повернув головы в сторону от направления движения, как будто кто-то только что посвертывал им шеи, как охотник свертывает шею попавшей в силки куропатке. Вот другие, но чем-то похожие на предидущих люди уезжают куда-то в тесных, до отказа забитых вагонах, а женщины, плача, бегут по перрону и зачем-то машут разноцветными тряпками, словно отгоняя невидимый гнус. Вот море, незнакомое, непохожее на кешкино, густое, тяжелое, но в то же время теплое, похожее на опрокинутое летнее небо, крупнозвездное, ворчливое, полыхающее далекими зарницами. И люди в светлых одеждах, как ночные мотыльки, летучими бесшумными шагами прогуливаются, носятся вдоль теплого неветренного берега. И что-то шепчут друг другу, и их слова пахнут сладко и опасно, как дикий мед, стекающий густыми каплями из переполненных сот…
Старый музыкант явно и давно приметил Кешку в числе своих слушателей. Много раз, во время перерыва в игре он смотрел на него из-под очков внимательными невыцветшими глазами, смотрел легко и необидно, взглядом приглашая к общению, но Кешка каждый раз тушевался и прятался в тень, а то и вовсе уходил восвояси, остро и болезненно ощущая вдруг свою «недочеловечность».
Однажды баянист не выдержал их молчаливого поединка и поманил Кешку пальцем. Не в силах противиться, Кешка шагнул вперед и с ужасом обнаружил, что забыл даже те немногие слова и выражения, которые были доступны ему. Непонятность этой потери испугала его еще больше – ведь с посетителями помоек он объяснялся вполне сносно, и они в большинстве случаев понимали его также легко, как и он их. Но, к счастью, старый музыкант заговорил сам.
– Я давно наблюдаю за вами, молодой человек, – сказал он, слегка покачивая головой. – Такому слушателю, как вы, мог бы позавидовать любой музыкант. Я смотрел на ваше лицо и был поражен. Вы, по-видимому, очень глубоко чувствуете музыку. Вы где-то учились?
Кешка понял, что его о чем-то спросили, и на всякий случай отрицательно покачал головой.
– Меня зовут Евгений Константинович. А как величают вас?
Кешке мучительно хотелось убежать, но он не мог этого сделать, потому что музыка седого баяниста нравилась ему, и он не хотел лишать себя возможности ее слушать. Кешка понял, что Евгений Константинович – это имя старого музыканта. А что же он спросил?
– Кешка. Придурок, – сказал он, и по выражению глаз баяниста догадался, что в чем-то попал в точку, а в чем-то непоправимо разочаровал своего собеседника.
– Вот как, – Евгений Константинович сокрушенно покачал голубовато-седой головой. – Сожалею, искренне сожалею. Но знаете, Иннокентий, у вас удивительно умные глаза. Я бы осмелился даже сказать: зверски умные, если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Вы ведь не обидитесь на меня за этот эпитет?
– Нет, – сказал Кешка, опять уловив вопросительную интонацию, а потом вспомнил, что Блин тоже употреблял похожее слово. – Оби-идно, – говорил он. Но только что же это значит?
– Вот и хорошо. В вас действительно есть что-то от зверя. В необидном, сильном смысле этого слова. И лицо, и главное – выражение глаз… Вы когда-нибудь посещали школу?
– Нет, – что бы это ни значило, но здесь Кешка был почему-то абсолютно уверен – этого он не делал никогда.
– Жаль, – старый музыкант, словно устав, прикрыл глаза. – Очень жаль… Могу ли я что-нибудь сделать для вас? Поверьте, это не пустые слова, я давно наблюдаю за вами, и мне почему-то кажется, что в глубине вашей непроснувшейся души имеются некие скрытые ото всех потенции, большие, чем у других несчастных, с судьбой, аналогичной вашей. Вы понимаете меня?
Кешка улыбнулся, широко раздвинув губы, почти засмеялся, если не учитывать того, что смех его был беззвучным и оттого жутковатым для стороннего наблюдателя. Но ему и вправду было смешно. Почему-то ему казалось, что речи старого баяниста не смог бы понять даже Блин – знаток городской жизни. Поднапрягшись, Кешка решил блеснуть и проявил чудеса адекватности и сообразительности (о чем сам не подозревал, но о чем, похоже, догадался его собеседник).
– Нет. Спасибо, – по возможности смягчив свой хриплый, словно заржавелый голос, сказал он. – Ничего не надо.
Раньше, чем старый баянист успел сказать еще что-нибудь, Кешка, как всегда не оборачиваясь (он чувствовал обстановку за своей спиной – лесная привычка, условие выживания), шагнул назад и мгновенно расстаял, смешавшись с толпой в полутьме перехода. Музыкант потряс головой, достал платочек и вытер неизвестно отчего вспотевший лоб.
Другой баянист, который также нравился Кешке, был совсем мал. Детеныш – так мысленно называл его Кешка. Он играл в длинном светлом коридоре между двумя станциями, и казался непропорционально маленьким рядом с огромным инструментом, который величаво сидел на его острых коленях. Детеныш играл громко и отчаяно, прижавшись щекой к баяну и склонив набок светло-русую коротко остриженную голову. Глаза его во время игры были полузакрыты и, казалось, что каждое усилие, которым он раздвигает матово-черные тугие меха, может оказаться последним в его жизни. Кешка чувствовал в детеныше родственную душу, и совсем не боялся его, но никогда не подходил близко, и тем более не заговаривал с ним. Магия музыки надежно разделяла их миры с точки зрения Кешки, а сам Детеныш, в отличие от Евгения Константиновича, никогда Кешку не замечал.
Таковы были нехитрые удовольствия кешкиной жизни, и именно с ними оказались связаны очередные перемены в его судьбе.
Однажды, полускрывшись за ларьком, Кешка слушал умиротворяющую музыку Евгения Константиновича, и ему казалось, что небольшие вечерние волны качают его тело невдалеке от мыса, а лучи неяркого солнца мягко гладят сомкнутые веки, создавая в мозгу причудливые оранжево-лилово-багровые картины. Вдруг музыка смолкла на полутакте, и Кешка ощутил это как удар. Чувство опасности было у него таким же отчетливым, как зрение, слух и осязание у нормальных здоровых людей, поэтому раньше, чем он открыл глаза, его тело уже само приняло приняло позу, соответствующую как возможности обороняться, так и возможности немедленного и стремительного бегства.
Рядом со старым музыкантом стояло двое людей-самцов, из числа чистых и опасных (в них присутствовало еще какое-то усугубляющее опасность отчаяние, как будто еще недавно они были грязными и сейчас не очень уверенно чувствовали себя в нынешнем статусе). Лиц их Кешка не видел, но спины нашел весьма выразительными. Прислушиваясь, Кешка легко исключил из сферы своего внимания посторонние переходные шумы и сосредоточился на интересующем его разговоре (он часто делал так во время охоты в лесу, и из множества лесных и морских звуков умел слышать именно тот, который был ему нужен в данный момент. Большинство людей в той или иной мере обладают этой способностью, но для своего проявления она нуждается в развитии и тренировке).