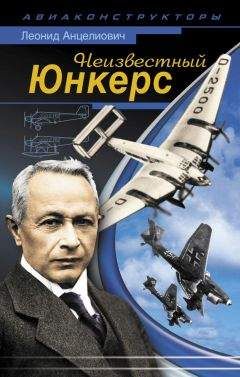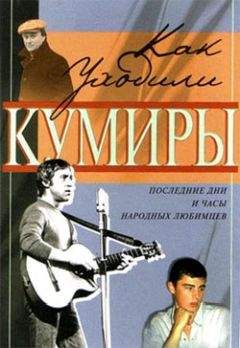Таковы были нехитрые удовольствия кешкиной жизни, и именно с ними оказались связаны очередные перемены в его судьбе.
Однажды, полускрывшись за ларьком, Кешка слушал умиротворяющую музыку Евгения Константиновича, и ему казалось, что небольшие вечерние волны качают его тело невдалеке от мыса, а лучи неяркого солнца мягко гладят сомкнутые веки, создавая в мозгу причудливые оранжево-лилово-багровые картины. Вдруг музыка смолкла на полутакте, и Кешка ощутил это как удар. Чувство опасности было у него таким же отчетливым, как зрение, слух и осязание у нормальных здоровых людей, поэтому раньше, чем он открыл глаза, его тело уже само приняло приняло позу, соответствующую как возможности обороняться, так и возможности немедленного и стремительного бегства.
Рядом со старым музыкантом стояло двое людей-самцов, из числа чистых и опасных (в них присутствовало еще какое-то усугубляющее опасность отчаяние, как будто еще недавно они были грязными и сейчас не очень уверенно чувствовали себя в нынешнем статусе). Лиц их Кешка не видел, но спины нашел весьма выразительными. Прислушиваясь, Кешка легко исключил из сферы своего внимания посторонние переходные шумы и сосредоточился на интересующем его разговоре (он часто делал так во время охоты в лесу, и из множества лесных и морских звуков умел слышать именно тот, который был ему нужен в данный момент. Большинство людей в той или иной мере обладают этой способностью, но для своего проявления она нуждается в развитии и тренировке).
Разговор оказался малопонятным (Кешка ожидал этого) и вполне спокойным (этого Кешка не ожидал, потому что интуиция недвусмысленно говорила об опасности).
– Ну что, дед, гони капусту, время, – вполне мирно сказал один из самцов, тот, что был пониже ростом и вел разговор.
– Вы, мальчики, все-таки обратили бы внимание на свою общую культуру, – спокойно ответил старый музыкант, что-то перебирая в пальцах. По особенностям движений Кешка догадался, что он перебирает бумажки-деньги. Живя в Городе, он много раз видел и уже запомнил этот жест. – Вы же еще молодые, вам же детей растить. Музыка – она субстанция тонкая, это вам не гудок, не сирена, ее где угодно нельзя…
– Не та сумма, дед! – оборвал старика низкий и квадратный.
– Как не та? – удивился музыкант. – Все пересчитано. Проверяйте сами.
– Инфляция, дед. Слышал такое слово?
– Как же так, мальчики? Мы же с вами договаривались… Я со своей стороны…
– А теперь передоговоримся. Гони еще пятьдесят.
– Но мальчики, помилосердствуйте! Подумайте, в конце концов. Вы же сами рубите сук, на котором сидите. Если некая деятельность становится нерентабельной…
– Ты нам зубы не заговаривай. Деньги на бочку – и все!
– Мальчики, но нельзя же так! Давайте обсудим…
– Нечего нам с тобой обсуждать! – процедил низкий и квадратный и со злостью пнул носком ботинка черную коробку. Коробка перевернулась, а белая гвоздика упала в перемешанную сотнями ног грязь. Спутник квадратного наступил на нее каблуком. Тонкий стебель расплющился, а головка приподнялась, словно в тщетной попытке вылезти, спастись…
Кешка сжал зубы и кулаки. Злость была в общем-то не очень знакомым ему чувством.
– Ну хорошо, хорошо, но я вам все же хотел бы объяснить…
– Не надо объяснять, плати и все… Мы-то чего… Политика такая… – ощутимо остывая, почти весело сказал квадратный. Кешка физически ощутил, как исчезает, словно погасающие угли под пеплом, тревога непонятных пришельцев.
И вдруг в его мозгу полыхнула четкая, как воспоминание об уже свершившемся событии, мысль. Ни секунды не медля, Кешка сорвался с места и побежал к вестибюлю метро.
Детеныш играл как всегда, приложив ухо к баяну и прислушиваясь к чему-то, происходящему в его таинственных внутренностях. Рядом с ним никого не было. Кешка прислонился к стене чуть поодаль и принялся ждать. Ждать Кешка мог часами, не испытывая ни утомления, ни даже желания переменить позу. В сущности, ожидание для него ничем не отличалось от действия, и в этом было одно из коренных отличий его от людей Города. Сам Кешка покудова не знал об этом.
Но в этот раз долго ждать не пришлось. Знакомые фигуры показались в глубине коридора и на этот раз Кешка смог рассмотреть их лица. Лица ничего не сказали ему, но по другим каналам восприятия Кешка понял, что сейчас оба самца не испытывают практически никакой тревоги и абсолютно уверены в себе.
Их разговор с детенышем был еще короче.
– Капуста и пятьдесят сверху, – сказал квадратный, скучающе глядя куда-то в сторону.
– У меня нет! – пискнул детеныш. – Вы же говорили…
– Быстро, падла! – свистящим шепотом сказал квадратный, а его высокий спутник выразительно пошевелил плечами.
И опять Кешка понял их. Они вовсе не злились, они пугали. Так делает большой пес или волк, если хочет отнять у щенка лакомый кусок. Обычно щенок делает лужу и отползает на брюхе. Детеныш тоже испугался, но, похоже, у него действительно не было того, что они от него требовали. Второй, высокий, который не произнес ни слова, вытянул клешнястую руку и щелкнул детеныша по лбу. Детеныш тихонько взвизгнул и отпрянул, едва не уронив баян.
И тогда Кешка прыгнул. Молча. Одним прыжком преодолев разделяющее их расстояние и никого не задев по дороге.
Кешка не умел драться. Совсем не умел. И он никогда не смог бы объяснить, что именно он делал. Он ЗНАЛ. Знал, куда именно нужно ткнуть человека (и зверя) выпрямленными и напряженными пальцами, чтобы человек никому больше не мог причинить никакого вреда. Он и на своем теле знал такие места, и не раз пользовался ими, чтобы не чувствовать боли, преодолеть ее. Вот, например, тогда, когда он подвернул ногу и сломал лыжу в лесу, а мороз крепчал к ночи, и нога распухла так, что даже зубами было не стащить с нее ботинок, и надо было идти, потому что иначе, к утру идти было бы уже некому… И он сумел выключить боль и шел всю ночь и все утро, которое зимой почти не отличается от ночи, опираясь на загривок Полкана (тогда еще Полкана), и ловя воспаленным ртом снежинки, вспыхивающие фиолетовыми огнями в мертвом свете луны…
Они легли как-то сразу и покорно. Потому что не ожидали, не умели, как Кешка, чувствовать запах опасности. Сзади скучно и как-то не по-настоящему визжала какая-то женщина. Кешка наклонился над ними, взглянул в мутноватые, но все понимающие глаза и сказал медленно и отчетливо, чтоб поняли и запомнили:
– Детеныш. Баян. Музыка. Трогать – нет. Трогать – нет. Забыть.
В мутных глазах, как курица без головы, металось ошалелое удивление. Детеныш потянул Кешку за рукав, протараторил, захлебываясь, словно слова лезли из него сами, помимо его воли:
– Здорово ты их, классно, да, круто, ты крутой такой, да, я таких по жизни не видел, нет, ты меня, спасибо, да, я ввек не забуду, классно, они прям так и легли, ты как это делаешь, а? Способ такой, да, круто, я только по видаку смотрел, думал – лажа, а ты прям так, ты их трогал вообще, нет? Я не видел, я глаза закрыл, ну круто, да, никто не поверит, а чего они, падлы, сами…Ты иди, быстро, да, тебе идти надо, щас сюда менты прибегут, вон, уже, беги, я отбрехаюсь, вокруг все подтвердят, что они ко мне, а ты – их, я – ни при чем. Они теперь не полезут, пока тебя не найдут, они тебя не найдут, да? Они такие глупые, да , а ты – крутой, они думать будут – чего ты за меня, но ты беги, меня Санькой зовут, а тебя? Беги, потом скажешь, потом еще, я тебя с дедом познакомлю, он меня играть учил, и баян его, но ты беги, я пока на дно лягу, ты не думай, ты осторожней, да, беги, вон туда, быстро, и в поезд, понял, да…