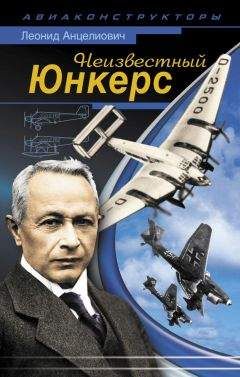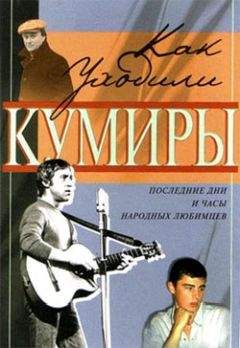В этом случае, я, пожалуй, сама себя не понимала.
Дело в том, что приблизительно четыре месяца назад у Регины появился сожитель. Познакомились они в жилконторе, потому что у нее что-то там прорвало, и она искала сантехника, и, как всегда, никого не было, а он где-то там параллельно работал то ли мастером, то ли еще кем, и почему-то Регину пожалел, пошел с ней и все исправил, хотя вроде бы и не был обязан, и даже денег не взял, хотя Регина и пыталась ему сунуть. Тогда она совсем засмущалась и предложила ему водки. А он засмеялся и попросил чаю. Так они и познакомились. Потом он стал заходить после работы, приносил шоколадки и игрушки для Виталика. Как и следовало ожидать, однажды он остался ночевать, а спустя две недели и вовсе переехал к Регине.
Звали его смешным именем Силантий, которое друзья-работяги сокращали до уважительного – Сила. После возникновения близких отношений Регина стала звать его Силичка, и непрерывно, на переменах и по телефону рассказывала мне о том, как Силичка то, Силичка се… Меня все это до бескрайности раздражало, хотя Регине я, разумеется, ничего не говорила. У Силички была машина и участок земли где-то под Приозерском. И вот Регина, которая за всю свою жизнь ни разу не видела автомобильного мотора, и ни разу не вскопала ни одной грядки, вдруг как-то всем этим прониклась и стала бесконечно говорить о том, что у нашей машины барахлят тормоза и нет техосмотра, а у нас на даче замечательно родятся огурцы, а вот редис почему-то совсем не растет… И еще постоянные рассказы «о жизни», призванные проиллюстрировать неустанную заботу Силички о Виталике и самой Регине.
Где-то в глубине души я за Регину радовалась. Силичка, судя по всему, оказался действительно неплохим мужиком, мягким и добродушным, сразу привязался к Виталику, и даже уже заговаривал о совместном ребенке. К тому же мало пил и неплохо зарабатывал. Для одинокой училки-разведенки – удача не мерянная. Но только я Регину с ее удачей почему-то избегала. И разговоры телефонные старалась побыстрее свернуть, и в учительской делала вид, что конспекты смотрю. Иногда спрашивала себя: почему? Неужели уж я такая сволочь, что подругина радость мне поперек горла?! Почему не могу порадоваться? Ведь когда в том году у Виталика нашли что-то такое нехорошее на ножке, и Регина с ним на Песочной лежала, так я места себе не находила, часами ее ужасные рассказы про больницу слушала, утешала, а в ночь перед тем, когда окончательный анализ должен был прийти, так и вовсе не спала, все думала: как же это может быть, чтобы такие маленькие мучились и умирали, и как же Регина будет жить, если и с ее Виталиком что-нибудь случится… Даже молиться пыталась, хотя в Бога никогда не верила. А когда выяснилось, что нарост этот доброкачественный, так с меня словно рюкзак тяжеленный сняли, и солнышко с неба улыбалось… А теперь вот подруге повезло, а я от нее шарахаюсь, словно от заразы какой. Где логика? Может, завидую? О нас-то с Антониной печься некому… Тоже вряд ли, потому что Силичка этот мне и с приплатой не нужен. Тогда что же?
Но, спрашивается, какая безмужняя баба в тридцать пять лет – не стерва? – утешила я себя, и решила Регине не звонить.
И никому вообще не звонить.
Все мы живем на свете, постепенно, от разочарования к разочарованию, привыкая к своему одиночеству. Как окончательно привыкнем, так и…
В конце концов, у меня вот еще дело образовалось. Полоцк, Вадим, Кешка, происки КГБ… Ну, пишут же в детективах про то, как немолодые уже тетки, словно наскипидаренные, бегают и убийства расследуют… Вот и я… Вадим… Олег… Оле-ежка…
Нет, наверное, они (тетки из детективов) всем этим уже после климакса занимаются…
* * *
Мне действительно всегда хотелось увидеть его глаза. В тот самый момент. Но почему-то никогда не получалось. Отчего – не знаю.
Однажды мы были на даче у его приятеля. Деревянному дому, по словам Олега, недавно исполнилось 130 лет, он скрипел и что-то рассказывал в пустоту, как выживший из ума старичок. С чердака в большую комнату заглядывал сквозняк. Трехногая кушетка была обита вытертым бархатом, в котором было совершенно невозможно угадать его первоначальный цвет. Вместо четвертой ноги под кушеткой лежали стопкой три кирпича. Если, лежа на кушетке, смотреть в окно, то можно увидеть, как в окне, где-то высоко-высоко в небе, медленно шевелятся кроны старых-престарых лип.
Мы боялись раздеться совсем, и неловко шарили руками под расстегнутыми рубашками. Ладони у обоих были холодными, но вместе с тем почему-то было жарко. Причем жарко неравномерно: волны влажного холода и обжигающего тепла ходили по телу сверху донизу без всяких видимых закономерностей, и когда на загривке словно помещали горячий компресс, ступни могли становиться совершенно ледяными. Время от времени Олежка вытаскивал руку из-под моего свитера и вытирал влажную ладонь о выцветший бархат. Напряжение чувств было таким ощутимым и физиологичным, что возникли даже какие-то изменения зрения: вокруг старых лип в окне появились радужные круги, а небо окрасилось в густой мышасто-серый цвет.
– Давай попробуем наоборот.
– Как это – наоборот?
– Ну, ты сверху…
– А разве так можно?
– Конечно можно, глупая. Иди ко мне…
Обычно во время близости я утыкалась лицом ему в шею, да еще и закрывала глаза от страха и смущения. В этот раз все было по-другому. Я видела его лицо, и это казалось мне странным. Потому что он очень старался улыбнуться, но у него ничего не получалось, а то, что получалось, очень напоминало гримасу сдерживаемой боли.
– Тебе больно? – прошептала я.
– Нет, конечно, – он притянул меня к себе и поцеловал. – Что ты подумала, глупенькая?! Это же совсем другое…даже рядом с болью не лежало…Закрой глаза, не смотри…Делай сама, что тебе нравится…
Я подчинилась, потому что мне нравилось ему подчиняться, а потом вообще стало не до исследований и размышлений, и только в самый последний момент я на секунду открыла глаза и прямо в упор встретила его дикий, ни на что не похожий взгляд. Вообще-то глаза у Олежки всегда были серо-зеленые, но в этот миг они состояли из одних зрачков и прямо-таки полыхнули мне в лицо черным, каким-то совершенно чужим пламенем. И еще скорбная, странно неуместная складка между бровями… Не знаю, почему, но уже в ту секунду я знала, что этот миг буду помнить всегда. Сколько проживу. И дело даже не в том, что в эту секунду Олег был невозможно, просто-таки дьявольски красив, и не в том, что увиденная мною маска красивой скорби абсолютно не соотносилась с тем, что я вообще думала, знала и читала по этому поводу… Не знаю, в чем тут было дело…Не знаю, и все тут. Но только сразу после этого я дико и совершенно нелогично разрыдалась. Олежка был уже совсем обычный, только весь мокрый и горячий. Он страшно испугался и все спрашивал, спрашивал что-то…Я отрицательно мотала головой и жевала губу пополам с прядью своих волос, и все это было соленое от слез, пота, а потом, кажется, уже и от крови. И ничего было невозможно объяснить, и где-то в горле под подбородком стояла жуткая обида. Потому что именно в тот момент я впервые по-настоящему поняла, что, как бы ни были люди близки друг другу, всегда остается что-то, что нельзя разделить, и всегда живет где-то рядом чужое, непонятное, недосказанное. И ничего-то с этим поделать нельзя…