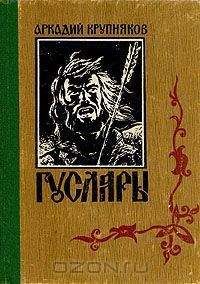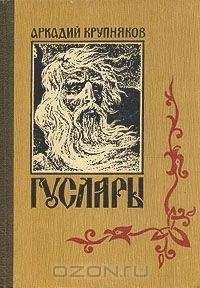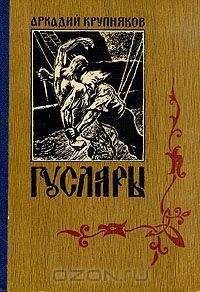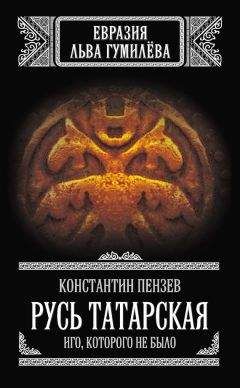Часовенка, словно сиротка, приткнулась у развилки дорог. Серая и ветхая, погнившая внизу, она склонилась, как старушка, готовая вот-вот упасть на колени. Еловый крест над ней потру- хлел, покрылся мелкими подушечками из сухого мха, крышка исщелялась, рассохлась. Лик богородицы потемнел, свечной огарок расплылся. Жестяная кружка для пожертвований пуста. Когда-то эта дорога была оживленной, теперь местность обезлюдела, и редко кто ездит и ходит мимо. Внизу — река, за нею начинается Горный черемисский край.
В это утро появились у развилки дорог четверо. Подошли к часовенке, остановились. Девушка перекрестилась, присела на ветхую скамью, сказала:
— Я больше, братцы, идти не могу. Ноги в кровь избила.
— Садись, сестренка, отдохни. Теперь мы дома!—ответил ей самый высокий из спутников, снимая котомку с плеч. Он радостно воскликнул:—Здравствуйте, леса! Земля родная, здравствуй! Прости, что покидал тебя надолго. Эгей! Родная сторона, ты слышишь, я вернулся!
— Ты больно-то не гогочи, Аказ. Погоня может быть,— заметил парень пониже, присаживаясь рядом с девушкой.
— К чертям, Санька, погоню! Надоело! Уж сколько дней в лесах хоронимся, без оглядки бежим от самой Москвы. И на конях, и на лодке, и пешком. Дням и ночам счет потеряли. Когда мы вышли, Ирина?
— От сретенья...
— Так это же январь. А нынче что?
— Масленица скоро,— ответил Санька.
— Стало быть марту начало.
— Да, хватили лиха,— заметил Топейка, помогая Ирине снять довольно потрепанные, грязные сапожки.
— Теперь, быть может, отдохнем,— сказала Ирина.
— Построим вам избу,— мечтательно сказал Аказ.— Вон лесу сколько. Срублю такую вот часовню... Молитесь своему богу. А с тобой, Саня, будем ходить на охоту. Сестренке найдем жениха. Ай, заживем!
— Ты что это больно радостен сегодня?—спросил Санька.
— Пойми, брат, под вечер будем дома. В котомке что-нибудь осталось?
— Есть хлеб,—ответила Ирина,—соль тоже есть. Водички бы...
— Я сбегаю,— Топейка схватил котелок, пошел на берег. Санька тоже поспешил за ним.
Ирина, раскладывая по скамейке сухари и узелок с солью, спросила Аказа:
— Ты говорил, что твоя жена в Казани. Может, вернулась? Вот будет радость.
На лицо Аказа набежала тень, он сказал тихо:
— Не думаю, чтобы вернулась. Не покорилась она... Замучили, наверно. Сколько лет прошло.
— Тоскуешь?
— Раньше тосковал...
— Придется другую жену искать, если так.
— Будь ты постарше — тебя бы засватал.
— Пока надумаешь жениться, глядишь — и постарею.
Подошли Санька с Топейкой, принесли воду и сели подкрепиться. Размачивали в кружках сухари, посыпали солью, неторопливо жевали. А разлука в виде худого, медленно бредущего человека с большой холщовой сумой приближалась к ним со стороны леса. Прохожий, грязный и оборванный, с черной всклокоченный бородой, сиплым, простуженным голосом сказал:
— Удачи желаю вам и мира.
— Добро пожаловать, прохожий,— ответил Санька, запивая сухари.
— Садись, раздели нашу трапезу,— предложила Ирина.
Путник присел на траву, рядом со скамьей, протянул грязную
руку. Ирина вложила в ладонь сухарь, подала кружку.
— Далеко ли путь держишь?—спросил Аказ.— Я вижу, жизнь тебя не балует.
— Надел суму на плечи — о жизни позабудь. И горе, и беда с тобой рядом пойдут.
— Откуда будешь? Мне что-то говор твой знаком.
— Татарин я. Из Кендарова улуса.
— Из Кендарова? Я там всех знаю. Соседний улус...
И тут вдруг нищий вскочил и бросился обнимать Аказа:
— Аказ! Родной мой! Друг!
— Мамлей! Да ты ли это? Подумать только... Не узнал я тебя.
— Пакман сказал, что тебя убили. А ты — вон он — живой и невредимый! Где был все это время?
— В Москве. Служил у русского царя.
— Я потому и не узнал тебя. В одежде сотника...
— А ты с сумой. Рассказывай.
— Ай, да что там говорить,— Мамлей махнул рукой.— Плохо у нас. Когда похоронили мы Тугу, пошел спор: кого Большим лужавуем поставить? Одни кричали — Ковяжа, другие — Мырзаная. Стал Ковяж главой Горной стороны. Потом Мырзанай женил его на своей дочке, оба лужавуя соединил в один. Пришло время, Ковяжа с его земель согнали, а Янгин еще раньше на Луговую сторону ушел.
— Куда же старейшины смотрели?!—воскликнул Аказ.
— Мырзанай старейшинам глаза золотом ослепил. Стал Большим лужавуем, и вот тогда они с Атлашем всех, кто был им неугоден, в бараний рог согнули. Мурза к ним не ездил, вместо него Алим Кучаков стал бывать, а он за меня принялся. Обложил наш улус большой данью, припомнил мулле день, когда тот тебя прятал. Я хотел на дочке Кендара жениться — не дали. Алим сказал мулле: пока Мамлей у вас, пощады вам не будет. Меня защищали татары, но силы были неравны. Улус Алим до нитки ограбил, мать с голоду умерла, а я суму надел...
— Боранчей жив? — спросил Аказ. И спросил, собственно, для того, чтобы узнать об Эрви.
— Он сильно болен. Когда Эрви ушла в Казань, он умом тронулся, теперь у Аптулата живет. Землю его Атлаш присвоил...
— Что об Эрви слышно? — спросил Топейка.
— Разное говорят. Сначала Пакман весть из Казани привез Говорил, что Эрви стала женой Кучака, сильно ругал ее, сказал, что веру и народ Эрви предала. Потом Шемкува проговорилась, сказала, что Эрви мурзе не покорилась, ее сильно били. Недавно Алим у нас был, Боранчей просил его вернуть Эрви, а Алим сказал, что ее в доме Кучака нет, а сам мурза живет в Крыму. Наверно, от побоев умерла.
— Но почему насилье терпите?— спросил Аказ.
— Мырзаная все ненавидят, но у народа нет вождя. Все тебя, Аказ, ждут.
— Куда идешь сейчас?
— На чувашскую сторону шел, но теперь, если возьмешь, с гобой пойду. Ты-то что думаешь делать?
— Пойдем в Нуженал!
— Рано, Аказ. Мырзанай сразу в Казань сообщит, и тебя схватят.
— Народ не даст! Да и я за себя постоять сумею.
— Люди напуганы... пока ты их соберешь...
— Верно Мамлей говорит,— вмешался в разговор Топейка.— Надо идти на чувашскую сторону и оттуда на Нуженал посмотреть. Пойдем в мою деревню, там у меня хороший друг есть—Магметка Бузубов. У него, как и у тебя, с Казанью свои счеты есть. Там Ковяжа разыщем, Янгина вызовем.
— Ты, пожалуй, прав,— сказал Аказ, подумав.— Пойдем к Бузубову. Веди, Топейка.
— Прости меня, Аказ,— Санька сложил котелок и кружки в котомку,— но мы с тобой не пойдем.
— Как это не пойдешь? Я вас не брошу.
— Мы в бегах, Аказ. Боимся...
— Ты меня обидеть хочешь? — возмутился Аказ.— Помнишь, когда пришли стрельцы, чтобы тебя бросить в темницу? Кто отбил тебя?
— Ты.
— А кто провез через заставы в царицыном возке?
— Ну, ты.
— И от погони не раз спасал. И все это было среди чужих и злобных людей. Так неужели на родной земле я не защищу тебя и Ирину?
— И верно, Саня, — сказала Ирина,—Сейчас Аказу каждый человек дорог. И ты бы мог...
— Ты сам еще не знаешь, что тебя ждет дома,— не слушая Ирину, продолжал Санька.— Тебе и так придется нелегко, а тут и мы, как гири на ногах.
— Верно говорит он,— согласился Топейка.— Мы были в Москве, если с русскими придем — нам совсем веры не будет. Мырзанай тебя станет называть продажным, предателем.
— Куда идти думаешь? — спросил Аказ.
— В лесные пустыни подамся,— сказал Санька.— Скит там выстрою. И лихолетье пересижу. А там видно будет.
Ирина хоть и понимала, что мужчины правы, а все равно погрустнела, на глаза навернулись слезы. Аказ заметил это и сказал:
— Я думаю, в разлуке нам быть недолго. Как остановитесь — весточку подай.
— Непременно. Как обживемся...
— Все будет хорошо. Я вас тогда найду. Не забывайте только: илем мой Нуженалом называется.
— Запомню, брат. Ты время не теряй, иди.
Аказ хотел обнять Ирину, слова какие-то нежные сказать, но встретил Санькин суровый взгляд и не решился. Вытащил из котомки купленные в Москве теплые варежки и молча надел их Ирине на руки. С Санькой прощанье вышло еще печальнее. У обоих мысль: а вдруг не свидятся больше, земля вон сколь велика, и один бог знает, куда занесет их беспокойная, беглая жизнь? Обнялись крепко, поцеловались по-братски. Аказ еще раз сказал:
— Не забудь — илем мой Нуженал.
Санька кивнул головой. Ирина шагнула навстречу Аказу, но Санька положил ей руку на плечо:
— Не надо. Я все понимаю, но лучше не надо.