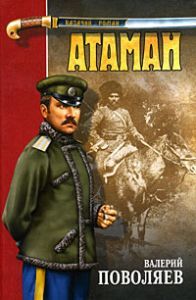Три дня тигра не было — он словно сквозь землю провалился, — старик, не находя новых следов, облегченно крестился.
— Неужто послушалась умного совета тигра, а? А ведь ушла мама, точно ушла...
Выпал снег. Уже ни на сопках, ни на низинах не оставалось обнаженных мест — все накрыло пушистое одеяло; дед по свежему снегу, как по первотропу, сделал на лыжах круг, обследовал места, где мог затаиться тигр, не нашел ни единого следочка, — и, вернувшись в дом, объявил казакам:
— Все, опасность, похоже, миновала. Послушалась меня тигра...
Старый урядник молча перекрестился.
— Но винтовочки с собою в выработки все-таки берите, — предупредил дед. — Мало ли что. Береженого Бог бережет.
Он как в воду глядел.
Прошло еще два дня. Вызвездился небольшой звонкий морозец. Сопки преобразились, обрели сказочный вид, огрузли в снегу, острые углы камней сгладились, воздух сделался розовым, в тайге запахло яблоками — свежими, только что снятыми с дерева. Деревья тоже принарядились — даже самые чахлые, самые завалящие, задавленные своими сородичами, кривые и те обрели красу.
Но казаки красе этой неземной словно совсем и не радовались, лица их делались все более задумчивыми, печальными, озабоченными, и печаль их была понятна: они находились далеко от дома, ни на Рождество Христово, ни на Новый год — 1921-й — им со своими родными увидеться не было дано. Да и война, похоже, еще продлится — бывалые люди чувствовали это своими жилами, кожей, костями, кровью, — и крови этой им придется еще пролить немало — это люди тоже чувствовали. Что происходит дома, что с родными, живы ли? — неведомо. Вот и мрачнели лица казаков, на глаза набегала тоска, люди тревожно и молча переглядывались, и тревога их была понятна.
В тот вечер ужинать сели рано. Кланя приготовила «царскую» еду — три чугунка картошки с консервированной говядиной и, как заправский повар в ресторане, набросала в варево различных трав и корешков, поэтому дух от распаренной картошки распространился такой, что молоденький Емельян не выдержал, облизнул губы, словно кот, потом достал из кармана ложку, облизал и ее.
— Маладец, мадама, — произнес он, специально картавя. — На тебе, мадама, дазе зениться мозно.
Кланя никак не отреагировала на эти слова, лишь глянула сквозь Емельяна, будто сквозь стекло или воздух — пустое место, мол, — и ухватом выкатила из печи четвертый чугунок.
— Это ежели кому не хватит — добавка, — объявила она.
Добавка была сметена так же быстро, как и первые три чугунка.
— Баше благородие... — урядник Сазонов отложил свою ложку в сторону, тарелку перекинул Клане, чтобы помыла, — а как нам быть со сродственниками?
Он задал вопрос, который вертелся у всех на языке, но никто задать его не решался.
— А что родственники? — машинально спросил прапорщик.
— Да повидаться б надо!
— Они где у вас, у красных остались или в Монголию ушли?
Большинство казаков, примкнувших к атаману Семенову, вывезли за собой семьи — часть успела переправиться в Гродеково, часть осталась в Монголии.
— Погрузили манаткн на две телеги и ушли... Под краснюками я их не оставил.
— Краснюками, — прапорщик улыбнулся печально, — а нас они зовут беляками. Кромсаем друг друга почем зря, мутузим, кровь льем для удовольствия тех, кто Россию ненавидит. Русские люди истребляют русских людей. Где это раньше было видано? Эх, Россия!
— Да, Россия, — урядник вздохнул, скопилось в нем что-то тяжелое, никак он от этой тяжести не мог избавиться, — Расея! Так как же насчет моего вопроса, ваше благородие?
— Не знаю, Сазонов, — признался прапорщик. — Приказа такого, чтобы кого-то куда-то отпускать, не было. Наоборот есть другой приказ, совершенно свежий, — чтобы... — Вырлан крепко сжал руку в кулак, — чтобы всех держать в руке, вот так держать. Очень большое значение атаман придает вашей работе. Мне даже велели передать — от вашей работы зависит, будет жива Россия или нет.
— Россия будет жива всегда, кто бы чего ни делал, — убежденно произнес урядник, — это факт. А вот то, что родные подохнут без нас — это тоже факт.
— Поймите, Сазонов, рад бы я вас отпустить, да не могу, — проговорил прапорщик с сочувствием, — не имею права.
Сазонов понурил голову, задышал горестно.
— Жаль, — пробормотал он.
Прапорщик развел руки в стороны, потом прихлопнул ладонями по столу, лицо его приобрело виноватое выражение.
Разморенные от вкусной еды казаки расположились тем временем на полу, кинув на него несколько шинелей, и начали играть в извечного подкидного, популярного в каждой станице, в каждом полку.
Емельян, не дождавшись своей очереди, поднялся, накинул на плечи шинель и тихо выскользнул за дверь.
— Ты куда? — прокричал вслед старик.
Звездами малость полюбуюсь да воздушном свежим подышу, — произнес Емельян уже из-за двери.
Дед озабоченно качнул головой и стал натягивать на ноги валенки.
На улице все было белым-бело, из-за недалекой горы, украшенной зубчаткой голых, облезших по зиме лиственниц, выползла луна — огромная, неестественно яркая, слепящая, мертвенная, таинственная, залила все вокруг зеленоватым пламенем — сделала это так ровно, что на земле даже не осталось теней, все было окрашено в сплошной, без полутонов колер.
Емельян передернул плечами от стеклистого колючего холода, не замедлившего забраться под шинель, и по целине, не видя растворившейся в слепящем свете тропки, побрел к ближайшему дереву, на ходу расстегивая штаны.
У дерева оглянулся на дом — да дай бог, следом выйдет Кланя... Щеки его сделались горячими — Клани он стеснялся.
В доме скрипнула дверь, Емельян оглянулся, торопливо доделал свое дело, накапал на катанки и чертыхнулся от досады, в следующий миг закричал недорванно, страшно, но крика своего не услышал — сверху на него стремительной тенью свалился сильный гибкий зверь, играючи мазнул лапой Емельяна но голове, и она с вывернутым наизнанку правым глазом в разорванным до уха ртом, разбрызгивая кровь, докатилась по снегу и уткнулась в комель дерева.
Сам Емельян, уже безголовый, продолжал стоять — пальцы скребли по гульфику, короткими стыдливыми движениями стараясь его поскорее застегнуть.
От дома, прямо от дверей, хлобыстнул выстрел, следом еще одни, кто-то громко выругался, но голова Емелина этой ругани не услышала.
Через несколько секунд над телом наклонился старик, пробормотал слезно, неверяще:
— Ах ты боже ж ты мой!
Прошло еще несколько секунд, и рядом с ним оказался запыхавшийся Вырлан.
— Что произошло?
— Тигра начала мстить, ваше благородие. — В голос старика натекла мокреть, он всхлипнул. — Вот гада! Пока мы ее не убьем, она нас не оставит. — Он горько покрутил головой. — Я стрельнул в нее два раза, но не попал, — пожаловался старик, — разве в темноте в нее попадешь? Верткая, гада. — Он всхлипнул. — Как же я ошибся, а? Купился на то, что по первотропу не нашел ее следов, а? Виноват я!
Вырлан увидел оторванную голову Емельяна, болезненно сжался, боль стиснула ему сердце; прапорщик сквозь зубы всосал в себя воздух, потом захватил его открытым ртом, стараясь взять побольше, чтобы облегчить боль, но это не помогло, боль, внезапно возникшая в сердце, продолжала там сидеть, жгла живую плоть, и прапорщик пошатнулся — его неожиданно перестали держать ноги.
Тело Емельяна перенесли в сенцы, с ног сдернули катанки — теперь они ему все равно не нужны, рядом, завернутую в мешок из-под сахара, положили голову. Похоронить Емельяна решили завтра же. Как солдата, павшего в схватке, — здесь же, на поле боя, хотя на него уютная долинка эта мало походила.
На родину бы отвезти его, на реку Онон — там Емелины родственники живут, — жалеючи погибшего парня, проговорил казак Белов — рыжеусый, не похожий на чернявых дальневосточников. Белов храбро воевал, его форменную рубаху с высоким стоячим воротом украшали три Георгиевских креста, а полученные им на германской две награды, врученные ему за службу у Семенова, не носил, и когда его спросили, в чем причина, не брезгует ли он ими? — Белов ответил:
— Все награды для меня одинаковы, все дорогие, да только жизнь моя разделилась на две части: «до» и «после», до семнадцатого года и после него, и награды я ношу точно так же... Если кого-то это смущает, могу поменять один иконостас на другой. — Отцепил Георгиев, спрятал их в походный сидор[74], нацепил новые награды — семеновские, а точнее — колчаковские.
Утром вырыли могилу. Земля только сверху была твердая, промерзла на полштыка лопаты всего, а дальше была мягкая, теплая, жирная, парила — такую землю человеку, привыкшему к полю, к хлебу, так и хотелось распахать, бросить в нее зерно — хороший урожай мог уродиться. Казаки мяли землю пальцами, нюхали ее, щурились, отводили в сторону влажно блестевшие глаза — соскучились по домашним, по хозяйским делам. Дед быстро сколотил из досок гроб, обстругал его. Емельяна одели в чистую рубаху, дратвой пришили голову, лоб и глаза завязали полотенцем, опустили его пониже, чтобы не было видно вывернутого наизнанку и лопнувшего глаза, тело поудобнее уложили в гробу, чтобы молодому парню в нем лучше лежалось, перекрестили трижды и на веревках опустили в могилу.