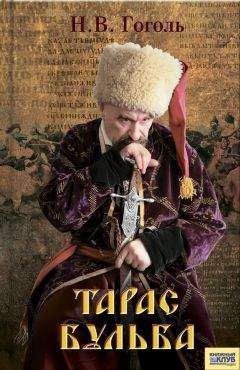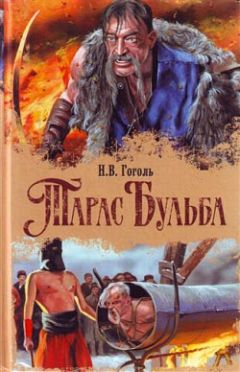Как–то Шаховская за роялем импровизировала романс. По ее просьбе Сильвестр сочинял для него слова. Он продиктовал двадцать семь вариантов — больше в доме не оказалось бумаги… Франс говорил, что никому не дано создавать шедевров, что некоторые произведения становятся ими благодаря любезности времени. Но Франс ошибался. Считается также, что поэзия делится по жанрам, стилям, возрастам, сословиям, степени начитанности. Но глаголы Сильвестра жгли сердца с одинаковым безразличием. Осторожничая, как Гулливер среди лилипутов, он подбирал слова: если ритмы других щекотали, его — разили наповал. В сравнение с ними остальная лирика казалась сочинением ярмарочных скоморохов, величайшие стихи — виршами, их язык — жаргоном… Искра Божия вспыхнула синим пламенем. Он представил существовавших до него классиков бледной тенью, их лексику — маловразумительной невнятицей, набором вульгарностей, заимствованных из просторечья…
Сильвестр не фиксировал события, происходящее вокруг было чужим, враждебным, он едва помнил вчерашний день, зато мог отчетливо воспроизвести выражения, в которых год назад, корябая акцентом, английский боцман заказал ростбиф, или интонации трактирщицы на его первом причастии… Но все изменилось. Чужие слова больше не буравили мозг, он научился строить защиту. Теперь он не прятался в ракушку от текущей вокруг реки косноязычия. Притупив абсолютный слух, он снизошел до нее, впитывая, как губка, чужие интонации, испорченный камертон, он передразнивал, пересмешничал, подражал… Так имитируют кваканье лягушек и пение цикад. Он схватывал мелодию речи, ее обертоны и контрапункты с той же легкостью, как раньше подделывал анапест и гекзаметр. Он научился отзвучивать собеседника, быть его эхом, зеркалом его чувств. Пустотелая форма, он наполнялся чужим содержанием, как кувшин — водой. Он видел скрытый подтекст, неграмотный, читал души, как раскрытую книгу. В разговоре с ним находили ответы на сокровеннейшие вопросы, не замечая, что разговаривают с собой… Чаинский и Шаховская ползали на коленях, унижались, клянчили, питаясь его метафорами, как ненасытные, голодные демоны… Сильвестр звал их «словососами»… Они стонали, бредили, галлюцинировали, они рыдали от упоения и жалости к себе… По болезни коротко стриженный, точно капуцин, он исповедовал именем слов, приговаривал, миловал, внушал, от него уходили просветленные, но сам он был миражом, иллюзией, лжемессией — он будоражил, оставаясь спокойным, задевая корневые связи невыстраданными словами…
По городу поползли слухи. Молва приписывала Сильвестру чудодействие, и вскоре для простодушных подъезд Чаинского превратился в райские ворота. Они шли сюда за спасением, разуверившиеся, позабывшие самих себя, они надеялись обрести себя снова в звуках его перекошенного рта, в бездне его гипербол и сравнений… Тропою ложных солнц, они брели к дому, где в распахнутых настежь дверях скалился Чаинский… Поначалу тот еще вяло протестовал, назначая очередь, комкая свидания со своей говорящей собственностью, но постепенно его смели, и он махнул рукой и взялся собирать подношения за вход.
Спустя год также низко висело солнце, корчилось карликом на горизонте… Сильвестр долго гулял по набережной, всматриваясь в опаловую даль. Посмотрел представление бродячего петрушечника и зачем–то купил черта на нитках. Он уже отобедал в ресторации, где ел устрицы и трюфеля, зашел в цирюльню… Платановая аллея вывела его к трактиру, где он провел отрочество. В кадке клешнями чернела пальма, здесь все было по–прежнему: выщербленная стойка, рыдания пьяных, оскорбительная вонь… Только желтого кенара сменил в клетке общипанный, облезлый щегол. Возле ног бездомной дворнягой крутился подросток с мокрым полотенцем наперевес.
— Хозяева дома? — спросил Сильвестр.
— На рынке-с… — Потухший, отсутствующий взгляд сироты. — Служишь давно? — Как мамка умерла… Мальчишка кинулся сметать пыль, навернулась слеза…
— Спишь в чулане… — Подросток равнодушно подтвердил. Обнажая пунцовый зев, клюнул зерно щегол.
И тут Сильвестру захотелось побыть отцом, ведь быть отцом — значит немного быть Богом…
— Писать умеешь?
— Да.
— В приходскую отпускают? — продолжил он допрос. Теперь он подделывал язык прислуги, как раньше — язык господ. — Неси бумагу…
Он диктовал, а мальчишка корпел, склонив голову набок. Сильвестр сосредоточенно глядел на своего двойника, избавляясь от непоколебимой иллюзии, на которой держится мир: веры в «я», вокруг которого, как мотыльки, мечущиеся над керосинкой, вращаются мысли, слова и поступки. Преломляясь в этой точке, роман превращается в драму, язык — в речь, а бытие обретает жизнь. Однако теперь он видел множество огоньков, одинаково мерцающих, плывущих по реке под безмолвным небом, огоньки уже слились с течением, стали его частью, и Ведун осознал, насколько глуп и беспомощен человеческий эгоизм…
— Разыщешь Фонбрассова, скажешь: сочинил — денег даст — Мальчишка отчаянно закивал… Потом начал мелко креститься: этот важный господин с отметиной на лбу был божеством, гением слова.
— Да, вот еще что… — Сильвестр достал черта на нитках — Это тебе…
В трактире, чистой его половине, где наспех оборудовали сцену, собралась кучка посвященных. Предвкушая сладкое забытье, они ерзали на стульях, курили, нервно обмахивались веерами. Пора было начинать. Но он молчал. На улице орала благим матом распутная женщина. «Моя мать…» — подумал Сильвестр и… показал всем кукиш.
Гробовую тишину сменил шепот, недоумение нарастало, их терпение было на исходе. Они чувствовали себя соблазненными и брошенными, как бродячих собак, их напрасно поманили и теперь отдали на бойню…
Они уже едва сдерживались. Первым на него бросился Чаинский. Одержимые, они рвали его на части — женщины, словно вакханки, визжали, царапая его ногтями, мужчины старались силой разжать ему рот, выдавливали зубы… Иные затыкали спасением уши — их подавляла исходящая от него тишина. Его мозг еще привычно переставлял буквы, фразы, звуки, уже не находившие выхода. Он еще мог усмирить их, но он смертельно устал. Он хотел освободиться, исчезнуть из этого искалеченного тела, он жаждал убить этот всеразъедающий мозг. Это был его крест, его голгофа. Он научился жалеть людей, он понял, что сострадание выше слов и почему Бог, которого ему предстояло увидеть через мгновенье, молчалив. Но люди его не жалели, как и тысячу лет назад они жрали своего кумира, ломали ему ребра, выворачивали язык… Они опомнились, когда все было кончено. Им стало неудобно: вытирая окровавленные губы, стыдились смотреть друг на друга, перешагивая через останки своего идола, стали расходиться…
Так посреди нелепых, жалких людей умер Сильвестр Ведун, величайший из поэтов, равного которому не видел свет. Как и любой, он не был виноват в своей доле, он сделал все, что от него зависело, искупив зло злосчастием…
* * *
— Молчуна спроси!
— У него спросишь! Света не выпросишь… Затмение ходячее…
Характер рождается под небом. Под общей крышей характера не совьешь. «Четвертый» с детства вбил в себя едва ли не главное: под небом каждый человек — учитель. Один научит выбивать зубы, другой их заговаривать, третий — растить зубы по всему телу.
Беды и удачи ходят стаями. В беду тебя затягивает и надо вырываться, в удаче — удержаться, бежать с теми, кто средь общего ухватил удачу за хвост, держится, сколько дыхалки хватит. Федор считает, что ему повезло. Нашел собственную стаю. Здесь такие же, как он. Способные все вынести, а значит, способные решиться на все. Всяк в своем деле мог бы стать выдающимся, если бы принадлежали самим себе, если бы только «пользовались», тратились на самих себя, на собственное благополучие.
Для «Четвертого» все равны, кроме Сергея Извилины. И еще, быть может, Петьки — Казака. Казак ему, «Четвертому», едва ли не зеркало, Извилина для него едва ли не бог.
Настоящие люди рождаются для легенд.
Федя — Молчун робеет перед Сергеем и всячески его опекает, стараясь делать это незаметно. Началось с того памятного приказа, когда Седой, передавая дела Георгию, подозвал Молчуна, и (втихую от всех) сказал: «Что бы впредь не случилось, ты, главное, Серегу береги!» — и не стал ничего объяснять, будто и так все ясно должно быть. Получилось, что как бы последний свой приказ по группе ему, Молчуну, и отдал. Потом много еще чего было. Было и такое, что даже вспоминать нельзя — запрещено. Но, по правде, и не хочется. А после того кровавого пакистанского дела, и Георгий (когда остались наедине) сказал свое насчет Извилины — едва ли не слово в слово повторил то, что раньше говорил Седой, только собственного добавил — что, при случае, когда станет выбор, выручать не его, Командира, ни кого–то еще, а Извилину, потому как он, Извилина, гений, а Руси больше гениями разбрасываться не должно, как бы на таланты она богата не была, но такое сегодня особо затратное — пришли такие времена. Еще сказал, что мало кто способен видеть выход в безвыходных ситуациях, моментально остальных в этом убедить, да в эту «щель» втолкнуть. И раз уж Молчун с ним в паре, то пусть идет с ним до конца жизни — только своей собственной, а не Серегиной — эту положено спасать. Командир на тот момент был «не в себе», но тогда все были «не в себе»…