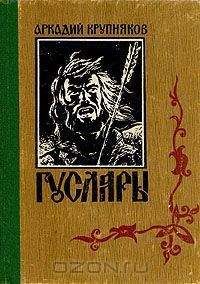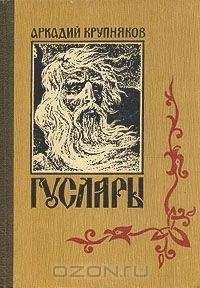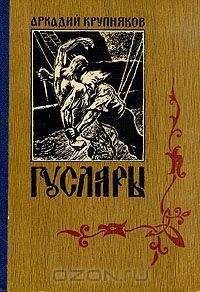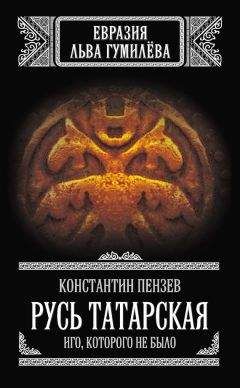Горный край и рассеять русских в пути. Клянись в этом, Пакман!
— Клянусь, великая царица!
Сююмбике поднялась над троном, величие снова вернулось к ней, и она твердо произнесла свои любимые слова:
— Казань никому не будет подвластной! — и, ласково взглянув на Алима, добавила: — Совет окончен.
Через два дня к Шигалею в Свияжск прискакали послы Казани с мурзой Энбарсом во главе. В сумке везли челобитную русскому царю. В ней было сказано:
«Царю, государю всея Руси, великому князю Ивану Васильевичу, Кудугул-улан в головах, да Муралей-князь и вся земля Казанская, и моллы, и сеиты, и шахи, и шахзады, и молзады, и офазы, и князи, и уланы, и мурзы, и ички, дворовые и задворные казаки, и чуваша, и черемисы, и мордва, и можары, и тарханы, и весь край Казанский тебе челом бьют, чтобы ты пожаловал, гнев свой отдал, а дал бы нам Шигалея царя на царство, а Утямыш-Гирея бы царя с матерью взял себе, а полону бы русскому волю дать, а нас бы, государь, пожаловал, не имал и крымцев, и остальных, и жены их, и дети их тоже бы пожаловал — о том челом бьем».
Шигалей прочитал грамоту и пропустил послов дальше, в Москву.
Иван Васильевич, прочитав грамоту, сказал:
— Нрав сей Сумбеки мне давно ведом. Блудница и злодейка. Задушить ее вместе с волчонком — и вся недолга.
— Позволь слово молвить, государь?
— Говори, Адашев.—Царь советы Адашева выслушивал всегда.
— Сумбека, государь, не блудница.
— Выходит, я лгу?! —глаза царя потемнели злобно.
— Не ты, а другие лгут. Любая женщина у трона подобной славы избежать не может, тем паче красивая. Вспомни матушку свою, царство ей небесное, сколько небылишных словес про нее говорено, и все зря. А Сумбека зело умна, и казанцы ее чтут высоко. И ежели мы ее погубим, нашему делу вред большой принесем
— По-твоему, оставить ее в Казани?
— Боже упаси. Она не токмо умна, но и властолюбива, хитра. Такую смуту в Казани заварит — не приведи бог. Ее надобно, государь мой, держать тебе около себя. Привези ее в Москву с почетом. Казанцев не озлобишь и хану Шигалею правление облегчишь
На том и порешили.
Для Сююмбике настали радостные дни. Снова смеется она, снова песни ногайские поет, пляски смотрит. Алима из своих покоев ни на шаг не отпускает. Натосковалась без любимого — насладиться не может.
Им надо бы джигитов мурзы Кучака, разбросанных по ханству, собрать, за казанцами б следить, да разве до этого влюбленным! Сына своего, Утямыша, и то забыла великая царица. Как унесли к мамке, так и не появлялся юный хан во дворце. Иногда закрадется в душу царицы тревога, но вспомнит, что вот-вот три тысячи воинов отца будут тут — успокоится.
Ночь сменяет день, день сменяет ночь. Луна сменяет солнце, солнце — луну. У царицы объятия сменяются песнями, песни — объятиями; время бежит незаметно.
Только за любовь всегда расплачиваться надо. Настал такой час и для Сююмбике. Вечером вошел к ней князь Муралей без спроса, без стука и как всегда спокойно сказал:
— Отныне Утямыш-Гирей не хан. Вся казанская земля Ивану поклон отдала. Отныне ханом в Казани будет Шах-Али. Утром готова будь — поедешь в Свияжск к хану,— сказал и вышел.
Царица кинулась искать Алима. Только он один защитит ее!
Алима еще раньше поймали, привели к Кудугулу.
— Блуд грязный творишь на ложе великих ханов! — зло крикнул Кудугул.— С ногайской сукой Казань позорите! Сейчас же вон из города! Я не хочу марать руки о тебя, презреннейший из презренных. Беги к ногайцам — только там ты можешь спасти свою вонючую шкуру. Если ты появишься в Крыму, хану станет известно, кто убил Сафу-Гирея. Ну а к Шигалею ты сам не пойдешь, убийца его брата.
Напрасно ищет Алима Сююмбике. Нет его в Казани. Ускакал он вместе с Пакманом на Луговую сторону во владения мурзы Япанчи.
К утру царица была готова в путь. Все свое золото и драгоценности зарыла в тайном месте: верила, что придет еще ее время —и снова взойдет ее звезда на небосклоне Казани. Она будет покорной женой Шах-Али до тех пор, пока не придут ее верные ногайские воины. А тогда...
И снова без зова и стука вошли в покои царицы Энбарс, Кудугул да Алимерден Азей. И сказал Кудугул:
— Выслушай русского воеводу. Царь Иван к тебе его послал.
В покои вошел князь Петр Семенович Серебряный, снял шапку, поклонился царице слегка и начал говорить, передавать то, что царь в письме написал.
— Что он говорит? — спросила Сююмбике у Алимердена, знающего по-русски.
А тот и сам мало чего понял из витиеватой речи князя и сказал царице просто:
— Собирайся. В Москву к царю в плен поедешь!
И сразу потемнело в глазах у Сююмбике. Значит, не замужество с Шах-Али, а плен. Значит, всем надеждам конец. Она поднялась, чтобы бросить в лицо ее обидчикам гневные слова, но впервые силы оставили её, ноги подкосились, и если бы служанки не подхватили ее под руки, упала бы на ковер.
И, может быть, аллах воскресил в памяти Сююмбике недавно слышанные слова: «Выиграть время».
Да, надо смириться, надо любой ценой остаться в Казани и выждать время. Никто не знает, что случится завтра.
Сююмбике подняла опущенную голову, сказала тихо:
— Пусть будет на то воля аллаха и царя московского,— и зарыдала.
Вечером Сююмбике позвала воеводу. Она была бледна, одета в траур. Было ясно, что разговор с князем уже обдуман.
— Может, я не знаю русских обычаев, пусть князь меня простит за это, но во всех войнах в плен берут тех, кто воюет. За что же пленил меня, слабую, беззащитную женщину с малым дитятей, русский царь? Переведи ему это, Алимерден.
— Не надо,—по-татарски ответил князь.— Сколько Алимерден знает по-русски, столько я знаю по-вашему. Утром Алимерден тебе неправильно перевел. Я про плен слов не говорил. И государь мой не пленить тебя повелел, а жизнь твою спасти. Люди казанские на престол просили Шигалея, государь мой им сие пожаловал и велел хану в жены тебя взять. А Шигалей в жены взять тебя отказался. Помыслили мы: тебе от него жизни не будет. И повелел государь привезти тебя в Москву.
— Как рабу, как злодейку негодную?
— Нет, как царицу. Ты выйди на берег — посмотри. Три тысячи лучших мечников будут служить твоей почетной охраной, тысяча стрелков будет приветствовать огнем твое вступление ка царский струг. И Москва тебя встретит по-царски.
— Князь, верно, знает, что недавно умер мой муж, хан Сафа- Гирей. Каждое утро и вечер шариат велит мне ходить на его гробницу и плакать. Я еще сорок дней должна ходить.
— Я бы тебя, царица, и год ждал, но ведь я не один. Со мной рати четыре тысячи. Корму взято на десять дён. Если остатные тридцать дён рать мою кормить будешь — ходи на могилу по полному обычаю.
— Спасибо тебе, князь. Через десять дней я в твоей власти.
Святой сеит был неожиданно удивлен, когда в дворцовой
мечети около ханских надгробий появилась царица Сююмбике.
С тех пор, как похоронили Сафу-Гирея, она на могиле мужа не была, а сейчас, видно, покаяться хочет перед отъездом из Казани.
Оставив охрану за дверью мечети, царица тихим шагом прошла к надгробию, упала на него и запричитала громко и протяжно:
— О Сафа, царь мой возлюбленный! Посмотри на свою покинутую горлицу, в слезах на могилу твою упавшую. Ты любил меня больше всех жен прекраснейших, посмотри на свою царицу: она теперь пленница, раба несчастная, вместе с сыном твоим уведут ее в землю чужую, иноязычную.
Сеит подошел к царице, притронулся к ее плечу.
— О аллах, я думала ты совсем не придешь, святой сеит,— заметила Сююмбике.— Меня ни на шаг не оставляют русские, я ем и сплю с охраной, только здесь позволили мне быть одной.
— Что угодно тебе, царица?
— Найди Алима Кучакова, приведи сюда тайно...
— Побойся всевышнего! — воскликнул сеит.
— Не ради греха зову его я сюда, а спасения Казани ради.
— Алим далеко отсюда. Говори, что ему передать.
— Казань не должна погибнуть, святой сеит! Город многолюден и силен, и верно сказал Кудугул: рознь съедает его. Скажи Алиму, что в час великой опасности пусть он будет в Казани, объединит всех людей на ее защиту
— Аллах не может унять рознь казанцев, как же Алиму...
— Только одно может объединить людей города — страх. Если Казань падет, погибнешь и ты, святой сеит, пойми это. И потому вселяй в души правоверных страх перед жестокостью русских. Я из Москвы помогу вам. Пошлю человека, который расскажет о замыслах московского царя, Алима же...