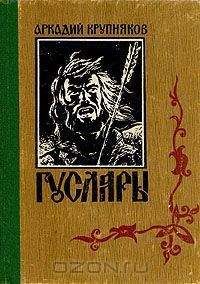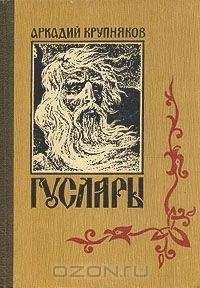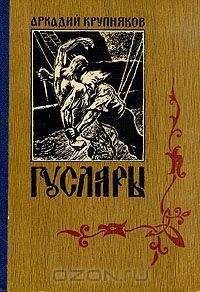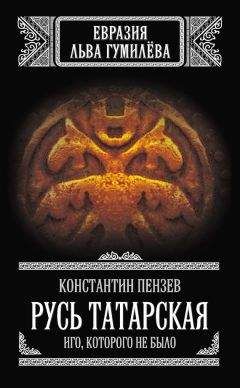Как после хмурой осени и студеной зимы приходит весна, так после горя и тоски приходит забвение и радость.
По ночам с крыш свияжских хором свешивались длинные ледяные сосульки. Утром поднималось весеннее солнце, и сосульки падали на землю с хрустальным звоном.
Оттаивало и сердце Акпарса. Стала забываться Эрви, все его существо просило чего-то иного, радостного. Проходя мимо Сань- киного дома, Акпарс поглядывал на оконца, надеясь увидеть Ирину. Однако в избу не заходил.
Однажды в сумерки он сидел у окна и услышал возле своего дома шаги. По хрустящему весеннему ледку ко двору шествовали друг за другом Ешка-поп с попадьей Палагой.
Пока Ешка топтался у порога да вытирал о половики грязные ноги, попадья вышла на средину избы, перекрестилась, глядя на скромное, не похожее на княжеское, тябло, поставила на стол что-то завернутое в шаль.
Ешка сыздавна не то чтобы уважал князей, а побаивался и потому ткнул попадью под бок:
— Куда прешь, кобыла. Поклонись сперва князюшке-батюшке.
Палата сурово глянула на Ешку, изрекла:
— Для иных-прочих он, может, и батюшка, а для нас с тобой овца во стаде православном, бо ты есть пастырь того стада. Чо рот-то разинул — благослови князя.— Ешка робко подошел к Акпарсу, помахал крест-накрест у него перед носом.
— Вот теперь, хозяюшко, принимай гостей. Мы уж по-свойски, прости,— пропела Палата.— Батюшка Ефим не соглашался к тебе идти, да я настояла.
— Почему не соглашался? — улыбаясь, спросил Акпарс.
— Соблазна боится. Теперь он хмельного в рот не берет. Зарекся.
— Сам зарекся?
— Вестимо, сам. Духу не выносит,— Палата незаметно для Ак- парса показала Ешке кулак.— Ну, что ты молчишь, батюшка?
— Истинно — не выношу,— жалобным голосом произнес Ешка и, глянув на бутыль, проглотил слюну.
— Садитесь. Я рад вашему приходу. Эй, Гази, собери на стол, у нас гости.
Пока Гази собирала на стол, попадья развернула шаль — и появилась преогромная бутыль. Внесенная в тепло, посудина снаружи подернулась мелкой отпотью, внутри колыхалась чуть мутноватая медовая брага. Ешка громко икнул от удовольствия. Щелкнула дверная щеколда, и в избу ввалился Топейка.
— Садись, друг,— больно кстати,— сказал повеселевший Акпарс, приглашая Топейку к столу.— Жалко, Ковяжа нет, к себе в илем уехал, был бы полный праздник!
И словно в сказке, на дворе появился Ковяж. Он привязал коня к крыльцу, вошел в дом и, раздевшись, подсел к столу.
— Вот теперича все в сборе,— сказала Палага и, налив три кружки, поставила их перед Топейкой, Акпарсом и Ковяжем.
— А отцу Ефиму?
— Да ты в своем ли уме, князь? Пятая неделя великого поста идет, да ему ни скоромного, ни хмельного, ни маковой росинки в рот. И нюхать нельзя. Это с вас спрос мал, вы хоть и крещены, а все одно постов не блюдете — жрете, что ни попади. Вы наполовину басурманы. А нам с батюшкой до христова дня поститься.
Все, с сожалением вздохнув, выпили. Ешка сидел, закрыв глаза, нижняя губа легонько вздрагивала.
— Эй, девка! — крикнула Палата, увидев на столе только одни скоромные яства.— Ты нам с отцом Ефимом постного притащи. Рыбки да лучку с хреном.
— Да разве она по-русски разумеет,— сказал хитрый Топей- ка.— Ты сама сходи, возьми, что тебе надо.
— Верно, верно,— добавил Ковяж.— Татарке верить нельзя. Еще нарочно жиру накапает. Вот будет грех.
— И то, — промолвила попадья и устремилась в варную половину.
Топейка быстро налил кружку, подвинул к Ешке. Тот единым махом плеснул ее в широко открытый рот, занюхал рукавом подрясника. Ковяж тем временем налил вторую. Когда Палага вошла с плошкой рыбы и луком, все сидели чинно, как будто ничего и не случилось. Только в глазах у каждого — смешинки. Попадья, заподозрив неладное, глянула на Ешку. У того замаслянились глаза, по лику разлилось блаженство.
— А ну-ка, дыхни!
Ешка, вместо того чтобы дохнуть ей под нос, хмыкнул в себя.
— Ах ты, ирод, бесово семя! Ах ты, пастырь, поганая глотка! Вот ляпну тебе по шее, греховоднику!
— Не бранись, квашня! — Ешка, выпивши, осмелел.— Не я ли тебя упреждал, что дело сие творить рано. Да мыслимо ли великим постом сватами ходить? Надобно было после пасхи.
— Тьфу ты, дурак, большая башка. Лезешь со своим языком, куда не просят. Да разве после пасхи этих басурманов вместе соберешь? Ныне и то сколь трудов стоило!—Попадья глянула на мужиков, махнула рукой.— Наливайте всем, раз такое дело. И мне наливай. Бог простит нам сей грех, бо во благо он сотворен.
Выпив налитую ей кружку, Палага вытерла губы кончиком платка, пососала рыбий хвост и, приосанившись, сказала:
Собрала я вас, мужички, по большому, угодному богу делу.
Доколе князь Аказ будет ходить един, как перст божий. Ему ли вдовцом быть, к его ли это стати? Удумали мы с отцом Ефимом князюшку оженить.
— А невеста? — спросил Ковяж.
— Про невесту вы его самого спросите.
— Меня? Я невесту не знаю.
— Ах, ты не знаешь? Сколько лет девке голову крутит, и он, седой котище, не знает! — Палага обежала вокруг стола, села рядом с князем.— Кто в Москве нежные песни ей пел? Не ты ли? Кто девке сердце высушил? Из-за кого она слезами изошла, того и гляди руки на себя наложит!
— Да не кричи ты,— сиповато упредил попадью Ешка.— Ведь перед тобой князь, а не Митька-плотник.
— Мне наплевать, что он князь. Он православный и...
— Подожди, подожди,— Акпарс положил руку Палате на плечо.— Разве я отказываюсь? Верно, Ирину я люблю давно. И Топейка про то знает, и Ковяж тоже знает. Однако по обычаям нашим я жениться не мог. Все знают: я жену похоронил недавно. Может, я и виноват, что не был верен ей сердцем, но обычай память о ней хранить велит. Вот тут сидит мой брат, а это мой друг. Пусть они скажут, как мне быть.
— Про твою любовь к русской весь народ теперь знает,— сказал Ковяж.— Однако тебя не осуждает никто. Все знают твою жизнь: было время, когда Эрви считали погибшей, было время, когда жену твою считали предавшей нашу веру. Много лет ты жил один, и ни ты, ни Эрви не виноваты в том. Я тоже тебя не виню. Делай, как велит сердце.
— Ты обычай выдержал, Аказ,— сказал Топейка.— Полгода уже давно прошло. Приводи в дом, кого хочешь. Вот наше слово. Если тебе нужна Ирина — я первый пойду сватать ее. Ирину наш народ любит, давно своей считает. Многие забыли, что она русская.
— Какие вы хорошие люди, пропади вы пропадом! — крикнул Ешка.— Давайте выпьем да и начнем сватов наряжать. Говори, князь, кого в сваты ставишь.
— Пусть Топейка идет, пусть Ковяж... и ты иди.
— Мне по сану неможно, а Палата, моя сизокрылая голубица, она пойдет. Хоть завтра в путь.
— Это отчего же завтра? — проговорила попадья, завертывая в шаль недопитую бутыль.— Идем сейчас же. А после христова дня сразу и под венец...
После пасхи начали таять снега. С гор хлынули потоки вешней воды, Волга вспучилась, освободилась ото льда. Днем позднее тронулась Свияга.
В городе торжество. Гудят церковные колокола, на улицах полно народа. Князь Акпарс стоит нынче под венцом. Ешка постарался на славу. Запалил множество свечей, в церкви — нестерпимое сияние и духота. На обручение и свадьбу прибыл воевода князь Шуйский со свитой. Церковь набита до отказа. Впереди, прижимаясь к самому аналою, теснятся гости: в парчовых ферязях и шубах— русские, в кафтанах тонкого белого сукна — черемисы.
Ирина стоит рядом с Акпарсом, как во сне. В счастье, которое пришло так поздно, трудно поверить. Может, не она стоит под венцом? Торжественно звучит голос отца Иохима. Ирина прислушивается.
— Венчается раб божий князь Акпарс с княгиней Ириной!
«Княгиня? Какая княгиня? — Ирина вздрогнула, но потом успокоилась.— Княгиня это, видно, я».
Санька почему-то сумрачен. Стоит он рядом с сестрой и украдкой поглядывает на окно. За окнами множество любопытных и среди них — Гази. Она басурманка, ее в церковь не пустили.
Князь Шуйский стоит сзади жениха и невесты, довольно потирает сытый подбородок и думает: «Князек черемисский не промах. Какую красавицу отыскал! Теперь с русскими породнился — не оторвешь. Это хорошо».
Попадья — нареченная мать Ирины — оглядывает церковь, а в голове старая, проверенная жизнью, мысль: «Этим скотам спуску давать не надо. Брать за загривок и прямо к венцу. У-у, иродово семя, мужики!»