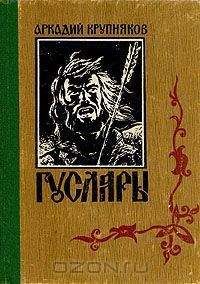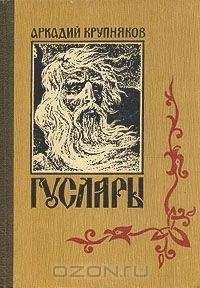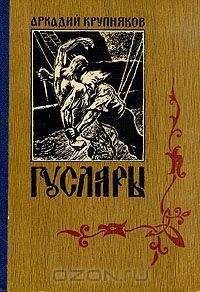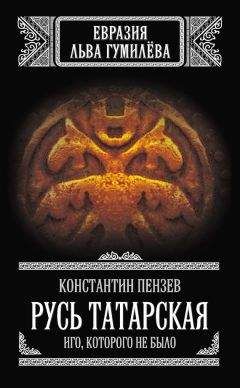Потом, одевшись, Гази вышла навстречу солнцу. Одета она в легкую кофточку, вместо юбки голубые татарские шаровары, перехваченные у щиколоток. Оглядевшись кругом, села на ковер густых трав у корней клена.
Санька тихо подошел к ней сзади, негромко сказал:
— Салям алейкум, Гази.
Девушка вскочила испуганно, бросилась к шатру, но, узнав Саньку, остановилась и сдавленным, не то от испуга, не то от радости, голосом ответила:
— Здравствай... Саня.
Санька не вытерпел, протянул к ней руки.
— Газейка... радость ты моя!
Девушка рывком бросилась к нему, Санька подхватил ее, поднял на руки и понес, как тогда, под Казанью, к реке. Глаза Гази приблизились к лицу Саньки, и словно увидел он в них отражение полыхающих городских стен и понял, что живет в памяти девушки это страшное время. И он не. ошибся. Гази тихо произнесла:
— Ты второй раз меня так несешь...
— Я тебя всю жизнь на руках рад нести!..
Целый день они провели вместе, ожидая Акпарса и Ирину, которые делили землю в дальнем илеме. Говорили по-черемисски, так как Санька совсем не знал по-татарски, а Гази еле-еле говорила по-русски. О женитьбе Санька не смел и заикнуться, хотя по глазам видел, что татарка любит его. Под вечер вернулись князь с княгинюшкой.
Ирина приезду брата обрадовалась, стала готовить гостю ужин. Гази помогала ей, часто забегала в шатер, бросая на Саньку горячие взоры.
— Я ведь к тебе не гостить приехал,—сказал Санька Акпарсу.—Я по делу. За советом.
— Говори.
— Недаром в народе говорится: седина в бороду — бес в ребро. Жить я без этой татарки не могу. Как быть-то мне, скажи?
— Ты мне Ирину сколько лет любить не давал?—Акпарс добродушно рассмеялся. — А теперь прибежал ко мне за советом? Ты сперва поживи в моей шкуре, помучься, потом я тебе скажу, как быть.
— Мне, друг, не до смеха.
-- Ну, а она тебя любит?
— Кто ее знает? Молчит все. Поговорить бы надо, спросить, да разве я осмелюсь?
— В этих делах без бабы не обойтись... Иринушка! Зайди-ка сюда!
— Тут я.—Ирина вошла в шатер.
— Саня жениться задумал. Газейку замуж хочет брать, а любит ли она его—не знает.
— Как же это ты, Саня? Да она ведь мухаметанка. Грех ведь.
Саньку взяло зло.
— Когда ты Аказу на шею вешалась, он кем был?!
— Так то же Аказ...
— То же, то же! Он язычник был. Что касаемо греха—не знай, кто из нас более грешен. Не ты ли в ските по вечерам в молитве говорила с богом, а ночью во сне с Аказом?
— Я те грехи замолила и венцом покрыла.
— А мне бобылем всю жизнь ходить?
Акпарс поднялся, открыл шатер, сказал:
— Идите в лес, там мало-мало поспорьте, а я с Газейкой сам поговорю. Идите.
Когда брат с сестрой вышли, Акпарс позвал татарку:
— Поговорить с тобой, Гази, надо.
— Я слушаю тебя, господин.
— Скоро полгода, как ты живешь в нашей семье, и все мы любим тебя, а кто ты для нас, до сих пор не знаем.
— Я вам верная слуга, господин.
— А Саня не хочет, чтобы ты слугой была.
— Он прогнать меня велел? За что?—В глазах девушки испуг.
— Он тебе волю дать хочет. Ты его пленница, а ему бог пленных держать не велит. Саня сказал: пусть она идет, куда душа скажет.
— Я бы лучше у вас осталась. Теперь у меня ничего нет: ни дома, ни родных. Мне у вас хорошо.
— Саня с сестрой русскому богу молятся. Я... я тоже крест ношу. А ты ведь аллаху поклоняешься. Как тут быть?
— Я аллаха забывать стала. В своих молитвах только вас благодарю. Саня спас меня от смерти, Ирина любовь мне свою отдала, ты в семью принял. Научите меня русскому богу молиться, и я забуду аллаха. Он мне всю жизнь только несчастья приносил.
— Если русский поп крест на шею тебе повесит?
— Пусть... повесит. Носить буду,—тихо ответила Гази.
— Иди. Я поговорю с Саней.
Когда Ирина с Санькой вернулись из леса, Акпарс сказал Саньке:
385
25 Марш Акпарса
— Поезжай в Свияжск, тащи попа Ешку. Гази нашу веру принять согласна.
Около полудня Санька привез отца Иохима. Ешка за зиму растолстел, тяжелый серебряный крест полулежит на округлом животе. Плотно пообедав у Акпарса в шатре, Ешка долго беседовал с Гази, наставляя ее на путь новой веры. Потом повел на берег речки крестить. В последнее время он к этому привык. Бывало, по целой сотне новокрещеных загонял в воду, читал привычные молитвы, кропил святой водой, получал определенную мзду, и у пастыря в пастве появлялась новая сотня православных.
Крестным отцом решили назвать Акпарса, крестной матерью— Ирину. Имя подобрали самое православное—Акулина.
На берегу Ешка равнодушно молвил:
— Разоблачайся.
Гази смущенно глядела то на Акпарса, то на Ирину.
— Не стыдись, я тебе не парень. Я тебе отец, и святой к тому же.—Видя, что Гази никак не может одолеть робость, крикнул:—Да раздевайся, пропади ты пропадом! Ты, крестный, отвернись!
Когда Гази, смущенная вконец, разделась, Ешка подошел к ней, отрезал прядку волос, вмял ее в комочек воска.
— Лезь в воду. Сказано—лезь.
Вода была холодная, и Гази осторожно вошла в реку по пояс. Окунулась.
Трижды окропив новокрещеную, Ешка начал творить положенную молитву.
— Теперь, раба божья Акулина, подойди ко мне. Целуй крест святой и будь верна ему отныне и во веки веков. Аминь!—И, достав из кармана медный нательный крестик, повесил его на шею Гази.
А вечером, напившись, Ешка укоризненно говорил:
— Ты скажи мне, раба божья Акулина, ведь имя новое забыла? Ну, скажи, как тебя зовут?
— Гази.
— Ах, пропади ты пропадом. Зовись, как знаешь. Только крест... Смотри у меня!—И Ешка погрозил пальцем...
Не успели отгулять свадьбу, вернулся в Сюрбиял Ковяж. Приехал злой и недовольный. В стычке с шайкой Мамич-Берды потерял тридцать воинов и сам первый бросился удирать.
— Ты не думай, я не струсил,—говорил он Акпарсу.—Еще раньше я понял, что воевать нам нельзя. Луговые люди глядели на нас недобрыми глазами, обзывали московскими блюдолизами. Там Мамич свои порядки завел, мне там нечего делать. Только людей зря губить.
— Значит, Луговую сторону Мамичу отдадим?
— А зачем мне Луговая сторона? — крикнул Ковяж,—Мне и на Горной стороне неплохо.
— Разве царю Ивану ты клятву не давал? Разве не обещал ему держать весь край в верности Москве? А теперь Мамича испугался?
— Ты знаешь, как я под Казанью дрался, и Мамича напрасно поминаешь. Я его не боюсь!
— Почему же убежал от него?
— Драться с ним не хотел. Весь народ говорит: Мамич че- ремисское ханство хочет делать, он народу друг. Он не как ты — царя Ивана не боится!
Акпарс вскочил, подбежал к брату, и все думали: сейчас что-то произойдет. Но Акпарс опустил руку, глянул в дерзкие глаза Ковяжа, сел к столу. Ковяж еще больше осмелел:
— Что ты привязался к Ивану? Мы ему Казань помогли взять, пусть скажет спасибо и не мешает нам своей землей править. Надо и нам вместе с Мамич-Берды вставать.
— Я знаю,— тихо сказал Акпарс,— о чем ты думаешь. Ты только о себе думаешь: вдруг Мамич-Берды ханство поднимет, всю власть себе возьмет, Ковяжу с Акпарсом ничего не оставит. Ты врешь! — Голос Акпарса стал суровым.— Мамич-Берды нашему народу не друг, а враг. Он, как и ты, только о себе думает, о власти. А такой человек никогда другом народу не будет. Ты меня русским царем упрекнул. Ты думаешь, у меня к нему сердце лежит? Мне другие люди дороги. Санька, Андрейка, Микеня, Ирина. Вот к кому я привязался. Я вперед гляжу и верю, что дети и внуки наши в дружбе с русскими будут жить. Если они хотят быть свободными и счастливыми, им с этим народом рядом идти надо. А такие, как Мамич, будут забыты народом и прокляты.
— Ну, мне домой пора,— хмуро сказал Ковяж и направился
к выходу.— Если я буду нужен, дай весть.
— Воинов оставь в полку,— резко бросил Акпарс.
— А кто защитит мой илем от разбойников?
— Над разбойниками Мамич-Берды главный. А он, ты сам говорил, народу друг. И твой — тоже. Не тронет твой илем.
Ковяж вышел, хлопнув дверью.
Спустя неделю отец Симеон отправил митрополиту донос на Ешку, где рассказал о греховодном привержении отца Ефима ко хмельному, о сквернословии. Но это было не самое главное, В конце доноса Симеон писал: