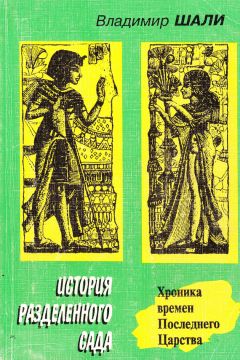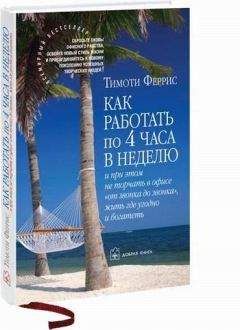Тогда-то я и узнал, что Роджер снова обокрал своего отца, но осуждать его поступок не спешил. И хотя это было слабым утешением, по крайней мере, у него были средства на покупку еды. О том, каким Роджер стал за последние два года, мы не говорили. Майкл не спрашивал, а я не хотел откровенничать. Нас связывала общая забота, и на большее ни я, ни он не претендовали.
Ночами, несмотря на дикую усталость, я мучился без сна, теребил в руках несчастный свитер и думал о Роджере, о том, где еще он мог находиться. Перебирал в уме все варианты, даже наиболее абсурдные, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. И почему-то чувствовал почти интуитивно, что мальчишка прячется где-то неподалеку, словно мы бегали за ним по пятам, но он в который раз ловко от нас ускользал.
Роджер, черт бы тебя побрал, где же ты?
Через неделю мистер Тейлор уехал обратно в Труро. Он не имел права забывать семью даже ради собственного ребенка, ведь дома остались жена и маленькая дочь. Нужно было зарабатывать деньги, а отпуск, взятый лишь для того, чтобы вернуть блудного сына, подошел к концу. Поэтому, вручив мне единственную имеющуюся в наличии фотографию и заручившись моим клятвенным обещанием держать в курсе всех событий и новостей, он, наконец, уехал. С одной стороны, я испытал облегчение, поскольку его общество изрядно меня утомило, с другой же — это затрудняло поиски.
Моя жизнь превратилась в какой-то ежедневный обязательный ритуал. Каждое утро я на одном энтузиазме заставлял себя подниматься с постели, принимать душ, одеваться и съедать безвкусный завтрак. В отличие от мистера Тейлора, я не мог позволить себе отпуск в конце года, в самую жаркую пору зачетов и сессий, и поэтому вынужден был ездить на работу. От всей этой беготни я так выматывался, что иногда позволял себе наглость немного вздремнуть в перерывах между лекциями, скрываясь от нежелательного внимания в своем кабинете. Лабораторные исследования целиком сгрузил на плечи Дэвида; пригрозив увольнением, запретил Кристин даже на милю приближаться ко мне со всякой ерундой; да и вообще старался ни с кем не разговаривать без необходимости, потому что каждое слово давалось с трудом, а я и так столько сил тратил на общение с посторонними людьми.
А по пути домой, не замечая ни нарядных елей на площадях, ни снующей суматошной толпы, увешанной пакетами с подарками, ни звучащих рождественских песен, снова обходил какой-нибудь вокзал или торговый центр, опрашивал охранников и администраторов, оставляя всем подряд свои визитки с номерами телефонов и показывая фотографию, при этом понимая, что попусту трачу время. Я был уверен, что стоило мне только отвернуться, как мои визитки выбрасывались, а образ Роджера тут же стирался из памяти людей. Рождественское настроение вовсю завладело умами изголодавшихся по праздникам людей в чьи планы явно не входили чужие проблемы. Кому какое дело до сбежавшего подростка. Вон их сколько по стране бродит.
Разумеется, мне так никто и не позвонил. И надежда на то, что Роджер остынет, одумается и вернется, тоже не оправдалась. Если бы я знал тогда, что мои благие побуждения обернутся такими проблемами… Да какая разница? Я бы все равно поступил так же и никогда не стал бы скрывать у себя несовершеннолетнего. В конечном счете, я все же решился обратиться в полицию, но и там без законного представителя меня даже выслушать не захотели. Но, несмотря на то, что все это казалось мне бесполезной суетой, я не хотел сдаваться.
Поглядывая на телефон Роджера, я колебался, раздумывая: было ли у меня право так бесцеремонно вторгаться в чужую личную жизнь. Помнится, однажды я поступился собственными принципами и залез без спроса в его рюкзак. И хотя для этого у меня была довольно веская причина, после я долго еще чувствовал себя неуютно от столь постыдного поступка.
Но отчаяние, охватившее меня после нескольких дней безуспешных поисков, заставило вновь пойти на сделку с совестью. От малейшего касания экрана, телефон мгновенно включился и, что странно, даже пароль не запросил. Но что меня больше всего поразило, так это моя фотография на заставке. И удивляло вовсе не то, что он когда-то успел меня незаметно сфотографировать, а его привязанность, настолько сильная и искренняя, что это глубоко тронуло меня.
Просматривая наши немногочисленные фотографии, каждая из которых была буквально выпрошена у меня, я вспомнил один из вечеров, когда были сделаны некоторые снимки.
Мы гуляли по дорожкам Риджентс парка среди опутанных разноцветными гирляндами деревьев, и Роджер носился с телефоном, снимая на камеру все подряд. А я уже в который раз ощущал себя родителем, выгуливающим перед сном неугомонного ребенка. Его глаза светились радостью, щеки раскраснелись, и он уже нацелил на меня камеру, но я, смеясь, выставил перед собой ладони.
— Эй, не закрывайся…
— Роджер, перестань, я не люблю фотографироваться.
— Да ладно… В Инстаграме у тебя полно фотографий! — протестовал он, бегая вокруг и пытаясь уловить момент.
— Это было давно. Молодец, что напомнил, надо бы удалить аккаунт.
— А кто тебя снимал? — Он пятился, не глядя под ноги и не страшась навернуться, и вдруг остановился как вкопанный. — Это он их сделал?
— Он? — До меня не разу дошло, кого он имел в виду. Но его нахмуренные брови, сжатые в тонкую линию губы, навели на определенные мысли. Я постарался придать своему голосу побольше равнодушия, хотя этого и не требовалось — на тот момент мне были безразличны все прошлые отношения, поэтому я спокойно ответил: — Да, одну или две… Я уже не помню, — отмахнулся, с подозрением наблюдая за состоянием Роджера, он что-то заметно приуныл. — В основном отец, и то по просьбе матушки.
— Но у тебя была фотография с этим… А у нас с тобой нет ни одной, — надулся Роджер.
— А ты хочешь?
— Еще спрашиваешь! И чтобы обязательно вместе…
Я притянул Роджера к себе, взъерошил его и без того непослушные волосы и постарался сделать перед объективом непринужденный вид, скрывая свое недовольство за вынужденной улыбкой, только бы порадовать мальчишку. Потом уже, наблюдая, как резко его настроение снова достигло безудержного веселья, я удивлялся, как же ловко он научился мной манипулировать. Я же так и не научился ему отказывать.
И каждый раз я будто бы через силу соглашался, раздражаясь от излишней настырности. И какой же болью, словно ножом по живой плоти, это отдавалось теперь. Я готов был сам его упрашивать, лишь бы видеть рядом его счастливую мордашку.
Открыв мессенджер в надежде найти хоть каких-то его знакомых, я не увидел ни одного сообщения с других номеров, только нашу ежедневную переписку. Во входящих звонках мой номер, в исходящих — тоже. А это значило — за все время, что Роджер жил у меня, я был единственным человеком, с кем он общался. Даже с его другом Джоном Диконом — контакт которого, кроме своего, я обнаружил в телефонной книге, он ни разу не созвонился. И это было странно…
На следующий день в обеденный перерыв я позвонил этому Джону. Немного смущаясь, он убеждал меня, что уже больше месяца не общался с Роджером, но я почему-то не верил ему. Не знаю, с чем это было связано, может, то же интуитивное ощущение не давало мне покоя, заставляя сомневаться во всем. Ведь его отец всегда охотно предлагал подросткам работу и платил за нее неплохо, а Роджер не стал бы отказываться от денег, особенно перед Рождеством. Тем не менее, парень пообещал, что сразу сообщит, если что-то узнает, а еще назвал несколько адресов, где бы мог появиться Роджер. И в ближайшие выходные я отправился на «прогулку» по свалкам.
Мы — люди, паразитируем на нашей планете, как блохи на теле животного, уничтожая все, что попадает в поле зрения, при этом умудряясь загадить каждый свободный клочок пространства. Я собственными глазами увидел, насколько безответственно мы относимся к окружающему нас миру.
О приближении к месту скопления отходов, меня оповестил витающий в воздухе густой запах. Скорее даже невыносимое зловоние от разлагающейся органики, от ржавчины, гари и ещё чего-то очень сильного, тошнотворного. Ступая по разноцветной, как на палитре художника, земле в своих начищенных туфлях, я тысячу раз пожалел, что не оделся попроще. Под ногами постоянно хлюпало, обдавая меня брызгами не то рыжего, не то красного, утягивало в груду мусора, и я опасался, что провалюсь к чертям в какую-нибудь помойную яму. Я подозревал, что жители улиц не отличались изысканными манерами, но количество надписей самого мерзкого содержания на старых полуразрушенных зданиях повергло меня в шок. Такой отборной нецензурщины я не встречал даже в годы своей учебы.