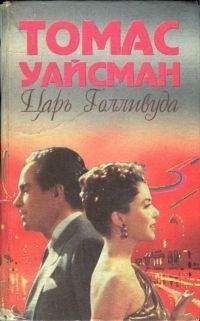— Папа, я знаю, ты хочешь мне лучшего, но, думаю, в школе я только зря трачу время. Они не учат меня ничему из того, что мне интересно. Мне кажется, я и сам могу изучить все то, что мне нужно знать; я хочу заниматься тем, что мне интересно, и кинематограф — дело, которое по мне.
Оскар вздохнул.
— Картины, — сказал он, — двигающиеся картинки, еще одно чудо, стоит только повернуть за угол.
Первое место, которое облюбовал себе Билли Сейерман, было сиротским приютом. Обнаружив, что немецкий католический приют Поминовения Всех Усопших обеспечен пищей лучше, чем все остальные приюты Нью-Йорка, он, несмотря на то, что его родители живы-здоровы, да еще к тому же евреи, решил попасть в этот приют. Воспламеняющие аппетит слухи повествовали о тушеной баранине и черном хлебе, испеченном монашками, о картофельных супах, а чтобы питаться всем этим, надо только обратиться в католическую веру. Он кормился дома наравне с двумя братьями и тремя сестрами. Но он чувствовал, что его собственные потребности в деле прокорма и заботы родителей о шестерке голодных ребятишек не могут сочетаться удовлетворительным для него образом. Мысль о приюте для сирот явилась ему в проблеске вдохновения, когда он заметил, что дети улицы, те, чьи родители умерли, выглядят гораздо более сытыми, чем дети живых родителей. Сделав соответствующие выводы, он решил действовать. Два дня спустя, не взяв ни крошки еды на двадцатичетырехчасовую дорогу, чтобы слабость его была убедительней, он отправился в сиротский приют, позвонил в колокольчик тяжелых деревянных ворот, украшенных розетками из почерневшего металла, и как только одна из монашенок открыла ему, пробормотал несколько слов и упал без чувств. Его история, когда он оказался в состоянии поведать ее, выглядела весьма душещипательно. Недели напролет бродил он по улицам Нью-Йорка в поисках денег и хоть какой-то еды, спал на скамейках в парках, под мостами и в чужих подъездах. Но все это еще бы и ничего. А что действительно угнетало его, так это кошмарная судьба его матери, которая в этот самый момент, несомненно, горит в аду. Три недели назад, прямо у него на глазах, она выбросилась с шестого этажа многоквартирного дома, где они жили, и разбилась насмерть без покаяния, без отпущения грехов, без причастия, в смертном грехе. Монахиня, которой он все это рассказывал, была удивлена, ведь он мальчик из семьи, где наверняка исповедуется еврейская религия. Ах да, не растерялся он, это просто горе! Его отец был евреем, злым человеком, сластолюбцем, развратившим не одну девушку-христианку — и он не видел его уже два года, — но мать раньше была хорошей девушкой, примерной дочерью римско-католической церкви, до тех пор, пока отец не соблазнил ее и не вынудил стать еврейкой. В результате он, Вилли, так и не был крещен, и теперь ему страшно, что вот он умрет, не успев перейти в священную церковь Иисуса, и попадет за это в ад, как и его несчастная матушка; он пришел в сиротский приют, объяснил он, даже не зная, куда идет, но его таинственно влек сюда крест, который он видел огненным во мраке своего исступления. Он чувствует, что это Бог привел его сюда, и теперь, когда он здесь, ему стало так спокойно, как никогда в жизни еще не было, и если они прогонят его, ему не останется ничего другого, как пойти в еврейский сиротский приют, но тогда душа его навеки будет погублена. Монахиня, бравшая у него интервью, так сильно впечатлилась историей Вилли, что повела его к матери-настоятельнице, которая была так же сильно впечатлена; конечно, строго говоря, это было нарушением правил, принять его в приют Поминовения Всех Усопших, но какое значение имели правила, когда перед вами душа, нуждающаяся в спасении, душа и без того подвергшаяся стольким мукам и терзаниям.
Вилли в сиротском приюте понравилось все. Некогда в этих высоких, чуть мрачноватых стенах было действительно прелестное пространство, полное жизни. Дортуары, церковь и классные комнаты группировались на акре[5] с лишним запущенных теперь земель, среди заросших сорняком и лопухами газонов; арочный четырехугольник старых стен окружал внутреннюю территорию и соединял разные здания. Летом здесь можно было обнаружить нарциссы, встречался даже один из редких их сортов — бледно-желтые жанкилии; выпускают ростки ирисы, выпускают их наобум, наудачу, где придется, в густой траве по обе стороны дорожек, под стенами, на газонах. С прежних времен здесь сохранился небольшой фруктовый сад с дюжиной деревьев, приносящих вполне приемлемый урожай яблок и груш; был также неплохой огород, где произрастали картофель, латук, кабачки и морковь. Вилли, как особый мальчик, как исключение из правил, некрещёный язычник, победно возвращающийся теперь к истинной вере, был предметом особого внимания и забот монахинь, что доставляло ему громадное удовольствие и давало возможность чувствовать себя весьма значительной личностью. Цена, которую платил он за столь прекрасную жизнь, была невелика: посещение церкви, выслушивание бесконечных религиозных инструкций. Нет, эта цена не казалась ему чрезмерной, когда он добирался до уютной чистой постели или садился за стол в предвкушении питательной и утоляющей его вечный голод трапезы.
Но неожиданно выяснилось, что некоторые другие воспитанники сиротского приюта возмущались тем особым обхождением, которого удостаивался Вилли. И вот в один из дней четверо воспитанников поджидали его. Они будто бы не замечали приближения Вилли, занимаясь метанием тяжелого камня вдоль улицы. И даже когда он жизнерадостно окликнул их, они сделали вид, что не слышат его. Поровнявшись с ними, он обнаружил, что путь его прегражден; шаг вправо, шаг влево — все бесполезно, ребята не пропускали его.
— Пропустите, — сказал он, — хватит дурачиться, пропустите же, бросьте это!
Тогда один из них, сделав вид, что пропускает его, выставил ему подножку, и Вилли упал.
— Эй, зачем вы это делаете? — жалобно спросил он, сидя на земле и потирая ушибленные коленки. — Что я вам сделал? Пропустите меня, ребята, не валяйте дурака.
— Жиденок хочет, чтобы мы его не валяли, — сказал мальчик по имени Фредди. — Ну и ну! Сам себя называет дураком, вот это да!
И он, прицелясь, жестоко пнул Вилли сзади, так что тот, падая, ткнулся лицом в землю и больше уже не пытался встать.
— Ты куда бегал, жиденок? — насмешливо спросил мальчик, которого звали Вальтер.
Вилли взглянул в его сторону и обнаружил подошву ботинка, приближающуюся к его лицу; он попытался отклониться и даже сделал слабую попытку встать, но кто-то снова толкнул его, и как бы он ни крутил головой, все же не мог спастись от приближающейся подошвы. Она опустилась на его лицо, на нос и рот, разбив губы; кто-то наступил еще ему на руки, так что он не мог защитить лицо руками. Пока он находился в этом положении, мальчишки поочередно вытирали о его одежду свои башмаки, так что он весь покрылся мерзкой уличной грязью и сажей. Когда все по очереди сделали это, тот, что начал первым, придумал еще кое-что: он вывозил свои башмаки в куче лошадиного навоза, оказавшейся неподалеку, и вернулся вытирать ноги о тело распростертого Вилли во второй раз. Затею подхватили другие, выискивая еще и собачье дерьмо, которого вокруг хватало, затем они возвращались и тоже вытирали башмаки о Вилли. И хотя он отчаянно пытался вырваться, он был слишком слаб против всей банды, удерживающей его на земле.