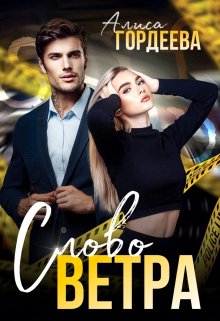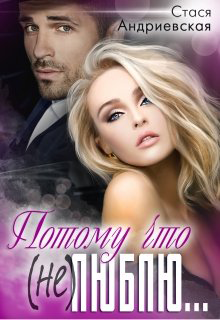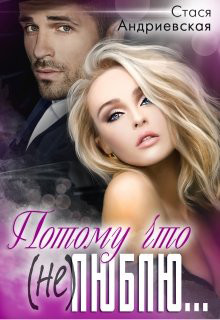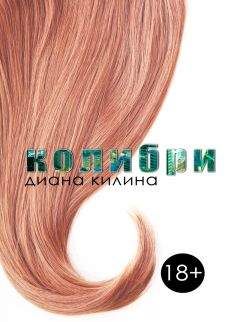позабыв, что ненавидит меня больше жизни. — Молодец! — выдыхает гулко и, отпустив меня, растирает лоб.
Высокий, плечистый, всегда статный и наглый сегодня Сергей Петрович всё больше напоминает тень. Под глазами залегла синева, морщины глубокими бороздами обезображивают лицо. Вечно зализанные назад волосы сейчас торчат в разные стороны, в свете холодного сияния люминесцентных ламп так явно отдавая сединой. Я таким отца Осина никогда не видела, а потому страх снова запускает свои щупальца в мою душу.
— Вчера. Два выстрела. По дороге в аэропорт. — слова даются Осину неимоверно трудно, словно каждое подобно пуле простреливает его самого. — Первый — мимо, — гулко сглатывает, собирая силы в кулак, чтобы продолжить. — Второй… Второй чудом не задел сердце. Скажи мне, какого дьявола Влада понесло в аэропорт?
Внутри всё дрожит. Мысли путаются, с разбега ударяясь одна об другую. И вроде понимаю, что Осин ждёт моего ответа, да и тот так и просится слететь с губ, но в голове только одно короткое слово: «жив».
— Мне надо к нему! — голос срывается в глухой стон, а я сама — к лестнице. Да и как иначе? Сегодня я уже опоздала к отцу, Влада я так просто в лапы смерти не отдам. Но Осин меня тормозит. Мотает головой как китайский болванчик, утопая в своём болоте из горя и страха, и монотонно повторяет:
— К нему нельзя. Даже мать пока не пускают.
У боли нет предела. Теперь знаю.
Слёзы могут высохнуть. Голос охрипнуть от бесконечного воя. Но боль не уходит. Никогда! Однажды поселившись в сердце, она навечно остаётся там. Со временем к ней привыкаешь. Учишься жить по-новому. Ловишь моменты, когда она дремлет. Но это всё потом. В самом начале, пока боль только выгрызает для себя уютную дырку в сердце, она нестерпима. Лишает рассудка, проедает в памяти проплешины и напрочь выбивает опору из-под ног. Искажает само восприятие мира и оглушает.
Вот и я чувствую, как на бешеной скорости лечу вниз, в бездонную пропасть, из которой не выбраться. Никогда. И только тонкий голосок Маруси, как маяк в темноте, заполняет собой мою пустоту, напоминая, что мне всё ещё есть за что бороться.
— Нана!
И мир постепенно срывается с мёртвой точки и снова начинает движение вокруг солнца.
— Нана!
Тепло крохотной ладошки согревает окостеневшее от холода сердце.
— Нана!
И я понимаю, что Маруське сейчас куда страшнее, чем мне. Она снова осталась одна, в одночасье потеряв всё и всех. Маленькая. Беззащитная. Никому в этой жизни ненужная. Как и я.
Руся прячется за мной и с опаской поглядывает на деда. Она будто чувствует, что именно он повинен во всех её бедах. Да и сейчас явился, чтобы окончательно разрушить нашу жизнь.
Впрочем, страшно не только Русе. Осин-старший и сам дрожит как кленовый лист на ветру. Исподлобья смотрит на внучку. Почти не дышит. В его глазах стоят слёзы. Не те скупые, что украшают мужчину, а горькие и безжалостные, которые без остатка разъедают ржавчиной душу. Осин сжимает губы в тонкую линию, отчего скулы на его лице мгновенно напрягаются, а на лбу проступает нервная испарина. Он туго сжимает кулаки, сдерживая рвущийся на волю рёв, и тихо стонет, замечая в крохе черты сына. Страшно представить, какие ураганы сейчас бушуют в его сердце, сколько там боли, отчаяния, презрения к самому себе. Эта девочка могла быть его внучкой. Она родилась бы в срок и сейчас ни в чём не отставала от сверстников. Она росла бы в любви и достатке. Её мать могла быть живой, а отец – счастливым. Да что там! Не вмешайся Осин в судьбу сына, Влад не был бы сейчас на волосок от смерти.
Меня разрывает от желания сорваться на незваного гостя с кулаками, обвинить его во всём, на мгновение ощутить обманчивую лёгкость, но потом я вспоминаю собственную мать. Я не хочу быть такой, как она. Не сейчас. Никогда. А потому сажусь перед Марусей на корточки, чтобы наши лица были на одном уровне, и тихо шепчу:
— Не бойся. Это твой дедушка. Он тебя не обидит. Больше никогда не обидит.
Руся кивает. Чуть с бо́льшим интересом смотрит на Осина. Чуть крепче сжимает мою руку. А потом улыбается деду, точно так же — по-доброму и открыто, как всегда улыбался Влад.
Напряжение, повисшее на лестничной клетке, зашкаливает. Наверно, если прислушаться, то за тяжёлым дыханием и сумасшедшим биением встревоженных сердец можно услышать, как плачут наши души.
Не знаю, откуда черпаю силы, но переступив через многолетние обиды, я позволяю Осину зайти в квартиру. Забыв запереть дверь, мы все втроём бредём на кухню. Руся угощает деда печеньем, а тот не моргая следит за каждым её неумелым движением, вслушивается в каждое слово, ловит малейшие эмоции на её лице. Мы все совершаем ошибки. Уверена, Осин в эти минуты осознаёт свои. А я стараюсь не думать о цене…
Спустя примерно час, едва уложив Марусю спать, я возвращаюсь на крохотную кухню. Сергей Петрович стоит ко мне спиной и жадно хватает носом прохладный воздух из приоткрытой форточки. Я жду, когда он наконец расскажет мне про Влада, но Осин всё ещё думает о Руське. — У неё на носу веснушки, – произносит он глухо, словно горло сковала ангина. — Влад в детстве свои ненавидел. И очки. Знаешь, Владик снял их только к десятому классу.
— Я помню.
Впервые за этот долгий и невыносимо тяжёлый день улыбаюсь.
— Влад тогда сразу как-то изменился. Стал увереннее в себе, смелее. Да и прозвище дурацкое отпало само собой.
— Я виноват, — прерывает мои школьные воспоминания Осин. — Перед сыном, тобой, этой девочкой.
— Да, — только и могу, что кивнуть. Какой бы сильной я ни пыталась казаться, этот день давно сравнял меня с землёй.
— Я хотел как лучше, — Осин продолжает сверлить взглядом темноту за окном. — Всё, что делал в этой жизни, — делал для сына. А он не ценил.
— Неправда, — хочу заступиться за Влада, но его отец меня не слышит.
— Я ошибся, — перебивает на полуслове. — Тогда, пять лет назад, испугался. Не принял всерьёз чувства сына. Надеялся, что перегорит, забудет. Распланировал для Влада счастливую жизнь, всё просчитал до мелочей, а его как-то не подумал спросить. Привык командовать, всё за всех решать…А сейчас ничего этого не нужно, понимаешь? Всё стёрлось, превратилось в пыль. Лишь бы