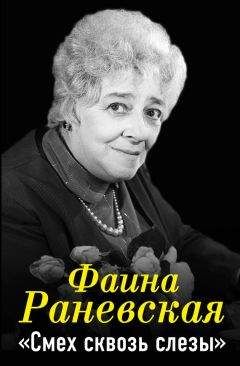Горянова изумленно выдохнула:
— Вы… вы зовете меня замуж?
Егоров удивленно приподнял брови:
— Замуж? А я неясно выразился? Извини. Зову.
— Вот так сразу? А повстречаться? Притереться? А если я продажная дрянь, хитрая актриса или извращенка какая — нибудь… Герка видел меня от силы два дня… И вот так?
— Так… Мне подходит… Но если хочешь повстречаться, притереться, я не против… Но потом обязательно замуж.
— С ума сошли…
Егоров чуть улыбнулся и приблизился совсем, скользнув губами по уголкам горяновских губ:
— Сошел…
Горянова отказывалась воспринимать происходящее, но сердце билось, с невероятной скоростью отбивая ритм, и горячие губы туманили разум:
— А я очень резкая.
— Хорошо…
И снова горячее касание рта.
— Я…. я матом ругаюсь, как сапожник…
— У меня все кругом матом ругаются, судьба, видно, такая…
И горячие ладони обожгли холодную кожу спины под курткой, притягивая без остатка.
— Я командовать люблю…
— Я тоже…
Через секунду они целовались. Горянова дрожала, как девчонка в сильных егоровских руках. И все не верила, что это происходит с ней. Но ее целовали, как подростка, на ветру, у подъезда. И было в этом что — то очень светлое и красивое. И это безумно ей нравилось…
Глава 15
Когда отказывает разум тем, у кого его априори нет, — подросткам, кисейным барышням, инфузориям — туфелькам, или проверяющим разных сортов и калибров, — это нормально, но когда разум отказывает вполне здравомыслящей девушке — вот тут беда! Здравомыслящие девушки вообще в нашем мире явление редкое, а потому страстно хранимое. Кем хранимое? — спросите вы? А фиг его знает. Кем — то… Инстинктом самосохранения. Здравомыслящие девушки даже сердечному порыву отдаются разумно, связывая свою судьбу с людьми, способными сделать жизнь прежде всего ком — форт — ной. Не более. Ибо именно комфорт, по сути, и определяет наш главный критерий жизненной успешности. В Даринкиной судьбе уже была одна история мгновенной страсти, залеченная больно, но основательно, а потому расставившая красные, громко кричавшие маячки на всей её душевной территории. И эти маячки теперь стремительно замигали, издавая предупреждающий отвратительный звук военных сирен…
Целоваться любят все. Все… все — не спорьте. Это довольно — таки приятное занятие, тем более с мужчиной, интересным во всех отношениях, умеющим это делать довольно сносно: не залезая огромным языком в горло, перекрывая жертве любви кислород, и не застревая этой склизкой субстанцией где — то в небном пространстве…
Целоваться любят все. Целоваться — да, но не терять голову, дрожа то ли от холода, то ли от перевозбуждения — кто теперь разберет, — при этом внутри себя вообще никак не осознавая. Никак! Нет меня, что называется. Берите — ведите, куда хотите… Как говорится, разум в отъезде…
Они долго целовались. Но всему когда — нибудь приходит конец. У Егорова с непривычки, наверное, шея затекла, он чуть — чуть отстранился, отодвигая от себя зацелованную Горянову, явно жаждущую страстного, безграничного, вполне тривиального продолжения. Он отстранился секунд на пять, не больше, может, его взгляд задержался, чтобы по — мужски полюбоваться на распухшие нежные девичьи губы или на нервный, красивый румянец, разлитый по чудесному синеглазому горяновскому лицу, кто скажет вернее? Но именно этих пяти секунд хватило Даринке, чтобы вспомнить о себе… немного, самую малость…
— Полундра! Ахтунг — Ахтунг! — тут же заорали маячки.
— Уважаемые граждане, воздушная тревога! — предупредительно завизжали сирены. — Просим всех собраться в бомбоубежище…
— Горянова, вали! — инстинкт самосохранения как всегда был лаконичен.
Мгновенно приходя в себя, зацелованная Горянова вскинула на Егорова мутный взгляд, ставший почему — то по — восточному раскосым, как у бабушки.
— Спасибо огромное, Лев Борисович, приятно было познакомиться…
И чопорно протянула руку. Егоров руку пожал. От такой резкой перемены мужчина растерялся, все еще не веря, что девушка, секунду назад таявшая в его руках, вот так уходит. Мгновение он порывался довести ее до квартиры, но Горянова махнула рукой, пробормотав что — то неопределенное и уже громче добавив, что дойдет сама, ибо ранние половые связи плохо сказываются на детской психике… Оторопелый Егоров остался стоять во дворе…
— Олег, — канючила в трубку Горянова, — ну передай телефон Ольке! У меня срочное дело!
— У тебя, Дарин, всегда срочное дело, а у Олечки режим!
— Какой режим?! Она не больна, Олежечка, она просто бе-ре-ме-нна!
— Как просто?! — искренне негодовал завирковский супружник. — Она не просто беременна, она долгожданно беременна! Мы над этим десять лет неустанно трудились…
— Нашел чем хвастать, снайпер недоделанный, ты хоть презерватив пробовал с хера снимать? — не удержалась от злобной выходки Горянова.
— Я сейчас кому — то презерватив на рот натяну, чтобы словестная дрянь не размножалась! — Олькин супружник был в ярости.
Горянова сбавила тон:
— Олежечка, ну позови Олю, ну очень надо! У меня жизнь решается!
— У нас тоже…
— Олежечка, — горяновский голос стал нежен, — меня тут замуж позвали, а я такая растерянная вся, что делать не знаю… Мне Оля позарез нужна.
— Тебе не Оля нужна, а карета! — Завирко был непреклонен.
— Какая карета? — оторопела Горянова. — Как у золушки?
— Карета скорой психиатрической помощи, — довольно выдохнул в трубку Олег, — и не одна, а еще тому идиоту, кто тебя, баба злобная и невоспитанная, замуж позвал!
И трубку положил, вернее, вообще выключил во избежание головной боли, зная не понаслышке горяновскую настойчивость.
— Он не идиот! Идиоты в нашей стране сидят повыше… А ты животное, Завирко! Прости, Олечка, но твой муж — упертый баран! — слова полетели в никуда, и Даринке ничего не оставалось делать, как смириться.
Боевая подруга была вне доступа, а другие как — то не котировались на роли главных политических советников и стратегов. Но адреналин кипятил кровь, хотелось решать судьбу народов и стран, а не только свою, так что спустя три минуты Горянова набирала Лильку. Но и здесь была осечка — абонент тоже был недоступен.
— Етить — колотить! Куда вы все подевались?
От отчаяния Горянова набрала номер Наташки, вот уже как полтора года выпавшей из обоймы близких подружек по причине счастливого замужества и невероятного собственнического характера ее благоверного. Но Наташка тоже не отвечала. Гудок злобно и противно повисал в воздухе.
— Не судьба! — вздохнула Горянова, и решила пойти спать, чтобы утро стало поскорее вечера мудренее и помогло ей сделать правильный выбор, ибо она сама пребывала в полнейшем смятении в отношении собственной жизни и не могла положиться на подводивший ее в последнее время разум.
Но зайдя в спальню, девушка должна была признать, что сегодня все складывалось не по шаблону. На Даринкиной кровати, аккуратно разложенные, лежали выбранные сегодня утром для Эльки подарки. Горянова усмехнулась: вот на кого можно было без зазрения совести вылить весь свой опасный прилив сил. Уж очень ей в той, доворонежской, жизни задолжали близкие родственнички. А почему нет? В конце — концов, Даринка не собиралась мстить — себе дороже, — но вот отказать в удовольствии разделить с ними последствия зацелованного адреналина — самое то.
— Курьер, идите в жопу! Мы едем сами!
Даринка, одной рукой набирая номер такси, другой выволакивала на свет пакеты знакомых брендов. Элька сегодня должна была получить незабываемые подарки на День рождения…
Спустя десять минут Горянова оделась как на светский раут: шелковое пальто, то самое, роскошные брюки и светлая блузка в запах, делавшая горяновскую великолепную грудь умопомрачительной, изумительные резные серьги из белого золота и такая же подвеска, дорогие часы, обновленный вечерний макияж. Надо признать, такой ее никогда не видели родители, потому что раньше она боялась хвастаться обновками… И собой, похоже, тоже боялась хвастаться. А сейчас… сейчас это уже не имело значения. Горянову пьянило это осознание собственной силы, свободы. И только теперь, в салоне роскошного такси (а такие люди с такими машинами вообще таксуют?) Горянова впервые вспомнила, что там, в ее доме, теперь живет еще один человек. Но даже эта мысль не принесла ничего, кроме улыбки: