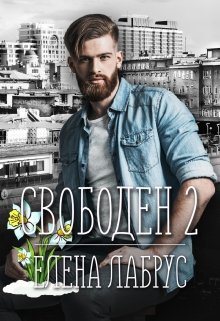в мою студию по телефону специалиста. Приехал парень, повозил этими своими палочками во рту. Я сам за это и заплатил. И забыл. А сегодня с утра отец забрал результаты. Твою же! — кулаком ударяет он в поломанный шкаф. — Твою же мать!
Новая порция битого стекла со звоном падает на пол.
А я невидящими глазами смотрю в верхний документ.
«Дело номер. Ребёнок: Ростислав Валерьевич Танков. Предполагаемый отец: Валерий Александрович Танков. Локус. Размеры аллелей. Столбики цифр. Комбинированный индекс отцовства: (много цифр). Вероятность Отцовства: 99, 99999999 %»
На следующем листе я вижу только имена. «Танков Артём Сергеевич. Танков Валерий Александрович» И последнюю строку.
«Вероятность Отцовства: 99, 9999999998 %»
А на третьем листе сразу читаю только заключение: «Анализ ДНК был выполнен с целью определения, являются ли тестируемые лица братьями/сёстрами. Исходя из результатов… локусов ДНК… вероятность того… имеют общего родителя, составляет 99 %».
— Я объясню, — ложится на мою руку тёплая ладонь Майи Аркадьевны.
Но её перебивает уверенный голос Лизы, склонившейся на Елизаровым:
— Таня, вызывай ещё одну «Скорую», боюсь, здесь сердечный приступ.
Я не слышала, как увезли Елизарова. Не видела, что происходило вокруг. Не ощущала мамины руки, лежащие у меня на плечах.
Я чувствовала себя каменной статуей, которая только что растрескалась, раскололась, разломилась на тысячи крошечных осколков, хотя внешне ещё казалась целой. Но стоит мне качнуться, дёрнуться, пошевелить пальцем, уголком рта, головой, ногой и я рассыплюсь. Превращусь в пыль. В прах. Перестану существовать.
Да, собственно, и так уже перестала.
— Он приехал дня через два после того, как уехал Сергей, — голос Майи Аркадьевны доносится словно из другой галактики. Так он тих, далёк, нереален, хотя она сидит рядом со мной, а я так и смотрю в проклятые бумажки.
— Искал поди родственников в Ленинграде, — понимающе кивает мама, хоть я её и не вижу. — Всё кичился своим якобы дворянским происхождением. Говорил: нужно произносить «ТАнков», а не «ТанкОв». Что так правильно. Если графиня, то «ДАшкова», а если крестьянка, то «ДашкОва». И всё норовил примазаться к интеллигенции. Всё корни свои там искал, в Питере. А попросту говоря, вынюхивал не получится ли где что урвать. Вдруг какое наследство где обломится, — слышу я её тяжёлый вздох.
— А у меня была как раз такая семья. Интеллигентная. Питерская. Родители уже в возрасте. Очень скромные, добрые люди. И отец его пригласил, чаем напоил, выслушал. О себе рассказал. О маме. Мило побеседовали. И он ушёл.
— Да, он умел быть милым, — кипятится мама.
— Катюш, ты присядь, — двигает ей стул тёть Валя.
— Да кого тут присядь. Кого присядь! — выдыхает она и, отпустив мои плечи, идёт бродить по комнате. Раскачиваясь как медведь-шатун, тиская в руках измученный платок, она доходит да мужа и утыкается лбом в крепкое плечо Юры, молча стоящего у окна.
— А спустя день. А, может, два, он вернулся, — всё так же тихо продолжает Майя Аркадьевна. — Вечером. Было очень морозно. Крещенская неделя. Говорили, такие холода в городе в блокаду были последний раз. А он в ботиночках, тонкой курточке, фраер. Его горячим отпоили, накормили. Отец, растревоженный воспоминаниями, как раз старые фотографии достал. Они опять посидели, поговорили. Да в такой холод на ночь глядя гостя и не погнали. Оставили ночевать, — срывается её голос. Губы трясутся. Глаза наполняются слезами.
Снова ударяет в нос острый запах корвалола, что подаёт ей заботливая Лиза. Звенит графин. Булькает вода. И стучат зубы о тонкие края стакана.
— Не рассказывайте, Майя Аркадьевна, — сжимает её плечи Лиза. — Не надо. Какая уже разница. Раз столько лет молчали.
— Не могла я, просто не могла. Как тогда не могла позвать на помощь. Кто бы мне помог? Старичок-отец? Наоборот, старалась, чтобы они за стенкой ничего не услышали. Губу закусила и молчала. А сопротивляться сил не было.
— Да куда ж! Против здорового мужика разве устоишь, — тяжело вздыхает Елизавета Марковна и тоже встаёт. Наливает себе воды. — Но столько лет врать, Майя, — выпивает она налитое залпом. — Столько судеб сломать, вот так… — качает головой.
— Клянусь, Лиза! Я не врала. И не было тогда никаких тестов ДНК. Но как бы мне ни было стыдно, а гинекологу я рассказала, что меня изнасиловали. И она меня уверила, что если я беременная, то точно не от второго. И я ей поверила. И забыла всё как страшный сон. Забыла, — прерывисто, судорожно вздыхает она. — Пока не встретила его сегодня, — закрывает она лицо руками. — Ну, кто? Кто бы мог подумать, что из тысячи женщин Артём выберет… эту.
Её снова душат слёзы. И Елизавета Марковна тоже плачет. Рос отвернулся к окну. Захар у того же открытого окна курит одну за одной. Мама раскачивается как маятник, обняв тётю Валю. И никто, никто из них не смотрит на меня.
На меня, не сказавшую ни слова. Не проронившую ни слезинки. Неживую. Срубленную под корень, как ель.
Хвойные деревья умирают долго. Так и стоят нарядные, радуя глаз хвоей. Так и уходят под зиму, зеленея иголками. А весной, когда всё просыпается, в один день желтеют и осыпаются. И тогда только все понимают, что это дерево умерло. Давно. Что уже поздно. Всё поздно.
— Отвезите меня кто-нибудь домой, — мой ровный спокойный голос заставляет всех замереть.
— Там оплаченный лимузин, — неловко кашлянув, первой отвечает Лиза.
— Хорошо, пусть будет лимузин, — встаю я.
— Ланочка, я поеду с тобой, — кидается ко мне мама.
— Оставьте меня, пожалуйста, одну, — качаю я головой. И выхожу ни на кого не глядя.
И еду в огромной пустой машине. Одна.
Одна поднимаюсь в пустую квартиру.
Снимаю платье. Вытаскиваю из волос колючие шпильки.
Ложусь в кровать. Укрываюсь одеялом.
Прижимаю руки к животу.
И только теперь позволяю себе заплакать.
Его ключ поворачивается в замке тихо, почти неслышно. Но я знаю, что это он.
Как он знает, что я не сплю, хотя на улице давно темно.
Он садится на пол передо мной. Кладёт подбородок на разбитые в кровь руки и молчит. И я молчу. Не вытираю слёзы. Смотрю как они катятся и по его щекам. Срываются с ресниц. Оставляют мокрые дорожки. Исчезают в густой бороде.
— Лан, — я этого не слышу, я читаю по его губам.
И порывисто, отчаянно обнимаю его за шею. Чтобы зарыдать в голос на его плече. Чтобы впиться зубами в тонкую ткань его рубашки. Чтобы вдохнуть его запах.
Может быть, в последний раз.
— Давай уедем, — шепчет он, когда я затихаю. — В другой город.