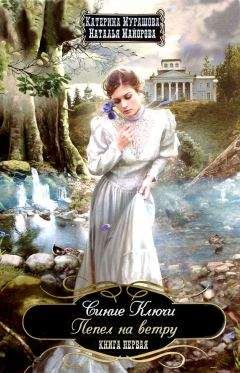– А с чего вы взяли, что о Нике нужно заботиться?
– Но… как же… Валерия в больнице, Нике тяжело с…
«… – Она надолго сляжет?
– Надолго. Сломали ей все, что могли. Пацана с девчонкой дома не было.
– Ну да, они же в школе. Так даже лучше. Лицо повредили?
– Да, сломали нос, скулы, выбили зубы, может, и глаз, не знаю, там месиво. Машину я забираю, как мы и договорились.
– Да забирай, нужна мне ее машина».
Это звучит из динамика, спрятанного где-то в зале, и Женька понимает, что должна прямо сейчас что-то сказать, но что сказать людям, смотрящим на нее с ненавистью и презрением?
– Мы – друзья Ники. – Высокий синеглазый блондин с растрепанными волосами изучает ее как какую-то невероятно мерзкую субстанцию. – И вы думали, что мы вам вот так просто позволим разрушить ее жизнь и отнять у нее то, что она создала?
– Евгения Зарецкая, вы арестованы по подозрению в организации заказного убийства…
Она не может поверить в происходящее. Девица в форме официантки ловко надевает на нее наручники, больно заломив ей руки за спину, а Женька думает только о том, что она должна вывернуться, что-то придумать, предпринять… Но на ум ничего не приходит, трое смотрят на нее с такой ненавистью, что она прожигает ее кожу, и Женька понимает – эти мужики превратят ее жизнь в ад – ради Ники, толстой дуры, вечно улыбающейся идиотки, недостойной никого из этих троих, не стоящей ничего из того, что у нее почему-то есть. Надо кому-то прямо сейчас позвонить, чтобы ее спасли, но кому? Отцу? Он никто, и звать его никак, все, что ему надо, – это с ее помощью забрать бизнес у Ники. Борику? Да он открестится от нее в тот же момент, как только глянет на этих троих. Почему ей некому позвонить, некого позвать на помощь? Почему за тридцать шесть лет жизни у нее не появилось ни единого друга, даже самого завалящего, ведь она достойна самого лучшего, почему же все прошло мимо?
– Ну, пошла на выход. – Девица в форме официантки подтолкнула ее. – Скажи спасибо, что мы мальчишку увели, не то бы он тебя вилкой заколол. И, сдается мне, был бы прав. Откуда только берутся такие гадины мерзкие, хотелось бы знать. Ничего, в тюрьме тебе живо мозги вправят.
Женьку сковал такой ужас, какого она не знала никогда. Пожалуй, впервые в жизни она испытала настоящее чувство, но не таких эмоций она ждала!
– Марек где? – Матвеев устало опустился на стул. – Я еле сдержался…
– Ребята затащили его к себе. От греха подальше. – Булатов вздохнул. – Вот так он жизнь начинает – учится ненавидеть… но тут и возразить нечего. В общем, я с персоналом переговорю сейчас, вместе решим, как нам быть, пока девчонки не в строю, а вы…
– А мы поедем домой к Нике. – Панфилов тяжело поднялся и потянулся за сигаретами. – Я Ирине обещал в больницу ее отвезти, к матери. А Макса там ждет кое-кто.
Матвеев подозрительно уставился на Панфилова.
– Саш, что ты устроил?
– Тебе понравится. – Панфилов ухмыльнулся. – Теперь надо проследить, чтобы дама, которая только что здесь побывала, не вывернулась.
– Не вывернется. – Паша Олешко о чем-то думает. – Но, пожалуй, гаврики те говорили правду – Валерию они не трогали, а это значит…
– Это значит, что есть еще кто-то. – Панфилов пыхнул дымом и снова затянулся с наслаждением. – Я и раньше так думал. Есть еще кто-то, так что ничего не закончилось. Ладно, нам пора, а вы тут решайте вопросы – и домой, будем думать.
Они едут темными улицами Александровска, Матвеев думает о том, как странно изменилась его жизнь всего за сутки. Вот так жил-работал, работал-жил, вертелся на своей орбите, а вдруг все переменилось в один момент, и этот момент показал, что вокруг есть жизнь, что она катит своим чередом, и кто друг, а кто враг, иной раз не видно – но чаще видно очень хорошо. И отлично, что есть Сашка Панфилов – напарник, компаньон, друг навек, и отлично, что есть Паша Олешко – бывший разведчик и душа-человек, и Ника – несуразная, невероятно искренняя в каждом своем движении, взгляде, слове, Ника, у которой на запястье точно такая же отметина, как у него самого… и это запястье, тонкое, с белой кожей…
Дверь открылась, и на него взглянули темные Димкины глаза.
– Пап!
Димка что-то жует, в руках у него серый полосатый котенок.
Матвеев молча прижал к себе сына. Панфилов прав, во всем прав. Хорошо, что привезли сюда Димку. Нужно немного сдать назад, чтобы снова выехать на правильную трассу.
Нике снится вокзал. Она сидит на холодной скамейке, вокруг пахнет пролитым пивом, пылью, котами и тем особым вокзальным запахом, который не выветривается никогда, а люди торопятся, идут мимо. Но она видит только их ноги, потому что она совсем маленькая, ей холодно, и очень болит рука, она придерживает ее, но боль наполняет все тело. Боль сильнее холода, сильнее страха. Ника знает, чего она боится, – сейчас вернется кто-то, кто сделает ей еще больнее. И сидит кто-то теплый рядом, она держится за его палец, они прижимаются друг к другу, и кто-то шепчет: на острове стоит дворец, там живет принцесса, и много цветов, и какая угодно еда, и дворец охраняют солдаты, которые никого туда не пускают…
А потом кто-то дернул ее за больную руку, и она закричала громко и безнадежно, потому что тот, что дергает ее, все равно не пощадит. И солдаты не идут защищать ее, потому что она потерялась из дворца. Холод сковывает ее тело, и больше уже не видно ни острова, ни сказки.
– Ника, Никуша! – Матвеев трясет ее за плечи, Буч испуганно смотрит со своей подушки. – Проснись!
Ника открывает глаза – горит ночник, Матвеев, взъерошенный, в одних трусах, стоит рядом с ее кроватью, а Нике нужно в ванную, но ей не подняться – голова горит огнем, распухшее лицо чувствует каждый удар сердца, и ее тошнит, и душно, и нет спасения.
Руки Матвеева вытащили ее из сна, вернувшегося к ней снова, через много-много лет. Раньше, когда это ей снилось, приходила мама, обнимала ее и тихонько шептала что-то утешительное. Тихо, чтобы не слышал отец и не заметила вездесущая Женька. В такие моменты Ника знала – несмотря на все, мама любит ее. Просто отчего-то боится отца. Но снов этих Ника боялась, в них были боль, холод, отчаяние, был кто-то, кто делал ей больно. Правда, чей-то голос шептал ей о сказочных дворцах и принцессе, но, может, это она сама придумала?
– Мне нужно…
– Я отнесу тебя.
– Ты меня не поднимешь, я…
Матвеев поднял ее на руки и понес в ванную. Замешкавшись немного у двери, он попытался локтем ее открыть, но не получилось, пока Димкины руки не поднырнули под его, и дверь подалась.
– Подожди, пап, я свет зажгу.
Оставшись в ванной одна, Ника взглянула на свое отражение и в отчаянии заплакала. То, что осталось от ее лица, выглядит страшно: вся левая половина затекла, глаз скрылся, рассеченная скула темнеет запекшейся кровью – Семеныч решил пока не зашивать… – в общем, разрушения, которые произвел один-единственный удар, оказались практически невосстановимыми.
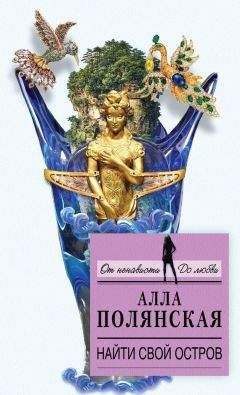
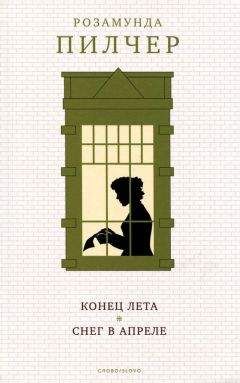
![Александра Гейл - Дневник любовницы мафии [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/12422/12422.jpg)