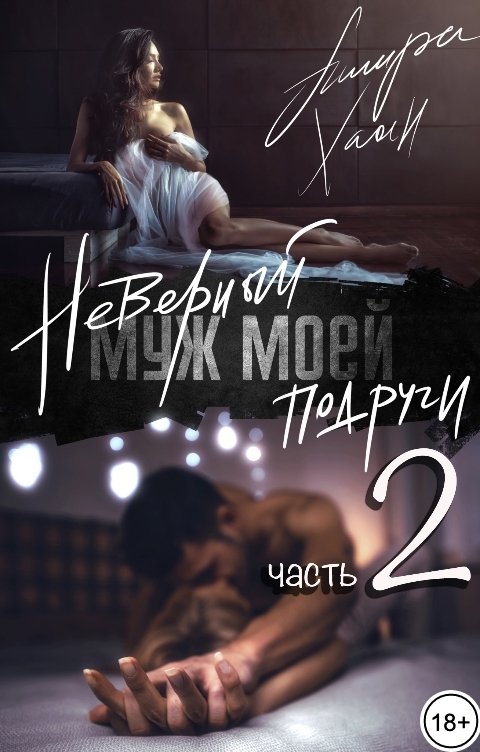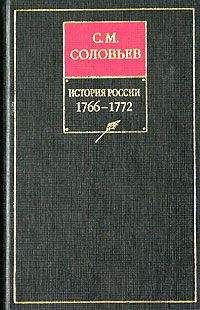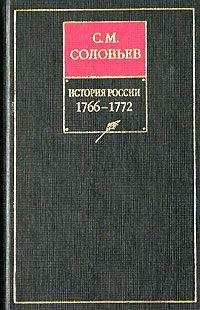закодировалась от алкоголизма, отец вышел из тюрьмы и нашел работу у какого-то отчаянного фермера, у которого «горит» урожай, и суд дал им последний шанс устроить Анюте нормальную жизнь.
«Учитывая ситуацию, мы считаем, что с родными родителями ребенку всегда будет лучше».
— Так бывает, — говорит мне добрая женщина из опеки. — Так часто бывает. Вы ведь не расстраиваетесь? Конечно, ехать было далеко…
— Нет, нет, что вы! — заверяю я ее, сквозь выступившие на глазах слезы глядя, как худенькая девочка с темными кудряшками вырывает руку у строгой тетеньки, представлявшей ее интересы в суде, и бросается к своей щуплой заплаканной маме.
Утыкается в ее юбку лицом и беззвучно рыдает, содрогаясь всем крошечным тельцем.
Мама ее смотрит на меня настороженным взглядом дикого зверька — а ну как брошусь и отниму детеныша.
Качаю головой и отворачиваюсь.
Мы с Германом уходим из душного зала сразу следом за родителями Анюты и молча, не сговариваясь, идем к киоску с мороженым. Ему шоколадное, мне вишневое — и бутылку минералки.
Все так же молча мы идем вдоль бульвара, усаженного липами, едим мороженое и думаем о чем-то своем. Идем за руку, вновь сплетая пальцы — несмотря на жару.
Воробьи галдят и купаются в песчаных ямках, прозрачные лучи солнца пробивают листву и оставляют яркие пятна на светлой футболке Германа, и все вокруг кажется сказочным, а значит — не таким уж и плохим. Неожиданно мир оказывается даже лучше, чем я ожидала. Возможно, дело в том, что Герман рядом. Все возможно.
— Ты как? — спрашивает он.
— Как будто отменили смертный приговор, — честно отвечаю я, забирая у него свою руку и вытирая испачканные пальцы спиртовыми салфетками.
Он останавливается и поворачивается ко мне. Хмурит брови, ведет длинными пальцами по моему плечу с узкой лямочкой сарафана. Кожа отзывается привычным захлебывающимся счастьем и немножко — болью, потому что, кажется, мы слишком много гуляли под ярким солнцем, и я слегка сгорела.
— Зачем ты согласилась на опеку, если сейчас чувствуешь облегчение?
— Чтобы не было пути назад, — отвечаю честно и отправляю скомканную салфетку метким броском в урну.
— От меня?.. — как-то растерянно говорит Герман, вновь ловя мои пальцы.
— К тебе.
Мы целуемся прямо посреди бульвара, и солнце пятнает нас своими лучами, рассыпает сияющие конфетти, от которых слепнут глаза.
И я закрываю их, чтобы вновь вдохнуть запах теплого розмарина и нагретых камней у моря.
Счастье от присутствия Германа внутри меня не гаснет, оно постоянно теплится маленьким огоньком, чтобы взреветь радостным пламенем в те моменты, когда он тянется, чтобы поцеловать меня, когда обвивает талию своими большими и крепкими руками и прижимает к себе.
Мне кажется, я счастлива даже больше, чем в тот момент, когда он впервые поцеловал меня. Тогда я еще не знала, насколько он потрясающий — даже больше, чем я воображала себе.
Прошло уже много месяцев с тех пор, как мы впервые встретились, а я еще ни разу не разочаровалась в нем. С каждым днем моя любовь только растет — и это так странно, и так страшно, что я даже разочек всхлипываю.
— Я тебя люблю, — говорю я одними губами.
Герман перестает дышать.
Он стоит и смотрит на меня.
Белая футболка, черные джинсы, ботинки эти в дырочку, как их там, помню, в кино объясняли даже разницу… Забыла.
Часы на запястье.
Нет кольца на пальце.
Темные волоски на предплечьях, вставшие дыбом от моих слов.
В черных глазах варится ведьминское зелье.
Как тогда, когда я так и не выдавила эти слова из себя, а он не смог мне этого простить.
Может быть, сегодня тот самый день, когда пора?
— Я не разведусь, — говорит Герман.
Сейчас. Ты незаменима
Я тоже.
Я тоже не разведусь.
Пусть Анюта больше не наша девочка — найдется другая.
А если не найдется, у меня есть Макар с Никитой, которым нужна полная семья, иначе они станут совсем неуправляемыми. Недавно их психолог так и сказал нам — больше рутины, больше дисциплины, больше предсказуемости. Мальчики слишком нервные и активные, им нужно, чтобы мир был спокойным, уравновешивал их.
Даже танцевальный кружок не разрешил поменять на гимнастику — слишком сильный стресс. Это отразится на их будущем. Реально ведь уйдут в пираты.
Я тоже не разведусь и прекрасно понимаю, что Герману наверняка что-то подобное сказал психолог про Марусю.
Но почему тогда так ноет в груди?
И летний день тускнеет, хотя небо по-прежнему безоблачно?
Пальцы обмякают, выскальзывая из руки Германа.
— Я понимаю, — говорю я спокойно, продолжая идти вперед, как заведенная.
Кто-то залил в меня программу — идти вперед — и в случае растерянности я просто ее не выключаю и делаю то, что делала.
— Понимаю, — повторяю я минуты через две.
Герман нагоняет меня, обходит и преграждает путь.
Держит за плечи, без сомнений, чувствуя волны мелкой дрожи, проходящей по мышцам. Заглядывает обеспокоенно в глаза.
— Лана…
— Понимаю! — почти выкрикиваю я, чтобы не расплакаться.
Я же правда понимала. До нынешнего дня — пока это было состоянием по умолчанию. Мы оба знали, что не разведемся и не будем это обсуждать. Произнесенный вслух секрет вдруг разбил вдребезги хрупкое спокойствие и баланс.
— Тише, тише… — он обнимает меня, прижимая мою голову к своей груди.
Сердце Германа бьется сильно и часто. Быстрее, чем мое, несмотря на истерическое состояние. Оно-то и заводит меня до того предела, когда уже наплевать на последствия откровенности.
— Тогда что ты хотел, когда звал меня с собой в больницу? — спрашиваю я, глядя снизу вверх в лицо Герману, успевая уловить все оттенки чувств на нем.
От растерянности до… покаяния и смущения.
— Не знаю, — говорит он. — В тот момент я совсем потерял голову.
— У тебя не было никакого плана?
— Нет.
— У тебя?! —