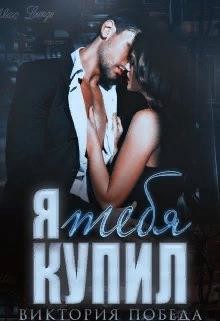Катя не спорит, словно чувствуя настроение матери, молча слезает со стула и убегает из кухни.
Стоит малявке скрыться за дверью, Александровна переводит на меня свой фирменный взгляд «строгой» училки.
— Егор, ты… ай, что ты…
Договорить она не успевает, не желая слушать очередной бред из серии «ты слишком торопишь события», я подхватываю ее за талию и сажаю на стол, широко разводя ноги.
— Лучше помолчи, Александровна, иначе я прямо сейчас выполню данное тебе в прошлый раз обещание.
Она сначала смотрит на меня недоуменно, а потом вспыхивает, словно спичка, краснеет до ушек своих красивых. Помнит, конечно, помнит. Я прямо здесь ее взять обещал, на столе, и я бы взял, с удовольствием взял бы все, что мне полагается, но на сегодня достаточно, для нее достаточно.
Наклоняюсь, целую ее в губы, понимая, что только так можно остановить готовящийся вылиться на меня словесный понос. И Ксюша меня не разочаровывает, сдается почти сразу, обнимает, отвечает на поцелуй. Моя, блядь, только моя.
— Ксюш, просто научись мне доверять и прекрати во мне сомневаться, — шепчу, с трудом от нее оторвавшись.
Она смотрит на меня как-то жалобно, беззащитно даже, но сказать ничего не решается.
— Я все сделаю, малышка, все, слышишь, для тебя все сделаю, — не сдерживаюсь, покрываю поцелуями ее лицо, просто кайфуя от того, что она рядом, что она моя. — Я в лепешку расшибусь, Ксюш, ты только не сомневайся, слышишь. Я же… Я, блядь, тебя люблю, Александровна.
Когда слова лишние...
Егор
Я сам не понимаю, как умудряюсь произнести эти слова вслух, вот так просто, совершенно открыто. И теперь, глядя на абсолютно растерянную Александровну я в очередной раз убеждаюсь в том, что мне дико нравится ее смущать, вгонять в ступор и с улыбкой наблюдать, как расширяются зрачки, розовеют щеки, как размыкаются припухшие от поцелуев розовые губки. Чувствовать, как учащается ее дыхание, как тонкие пальчики острыми ноготками впиваются в мою кожу.
Ее потерянный взгляд — высшая награда.
И нет, я не жалею о сказанном, я ведь действительно ее люблю, сейчас вот произнес вслух и окончательно для себя выводы сделал. У меня даже шансов не было, никаких просто, с самого первого дня, с первой встречи.
Я влюбился в нее по самые уши первого сентября прошлого года, когда не понимал еще ни черта, не знал, что так бывает, смотрел на свою мечту недосягаемую, шутил неуместно, ее в краску вгонял и кайфовал. А как иначе, разве мог я перед ней устоять? Я же ополоумел совсем, сдурел окончательно, а когда коснулся ее впервые, вдохнул фруктовый аромат, совсем себя потерял. Ей отдал, сам того не осознавая.
А она, училка моя, вся такая неприступная со своим грозным «Волков» во мне лишь азарт охотничий подогревала. Волк обрел свою красную шапочку. И отпустил ее, потеряв целый год. И как я так тупо купился на несуществующего мужика?
Ну не дебил, скажите? Дебил, как есть.
Поверил, в глаза ей смотрел и очевидного не видел. Какие, нахрен, мужики, когда она в моих объятиях дрожала, когда меня целовала. Какой, к черту, жених?
И, блядь, я Белому по гроб жизни должен буду за дурость его и безрассудность эту. За что, что шило в заднице не позволило ему тихо и мирно сидеть в Европе. Потому что если бы не придурок этот бешеный, я бы, наверное, свою Александровну уже и не встретил, а если и встретил бы, то, наверное, реально уже замужнюю и счастливую.
И разошлись бы мы с ней, как в море корабли, так что, Белый, спасибо тебе за то, что ты такой придурок дурной.
И вот теперь обнимая ее, к себе прижимая, после, должно быть, самого идиотского признания в любви, я понимаю, как сильно мне повезло и какой я долбанный счастливчик, потому что она, Александровна моя, никому не досталась, потому что она моя.
Смотрю, думаю и удивляюсь, как она, краса такая, невероятная просто, никого себе не нашла, евнухи ее что ли окружали все это время. Она же нереальная, настолько охрененная, что я едва ли слюни не пускаю, как только ее вижу. С первого дня, с первого, мать его дня.
И хорошо, конечно, хорошо, что мужики вокруг оказались дебилами конченными, раз такую конфетку не заметили, потому что я, наверное, не сдержался бы, убил просто, придушил к чертовой матери. Меня от одной мысли о потенциальном мужике разрывает. Ревность по телу разливается, все внутри огнем сжигая.
Не отдам, никому я тебя не отдам, Александровна. Я же совершенно точно на тебе помешался, поехал крышей, если хочешь.
И нет, я ничерта не жалею о сказанном, и от нее вот прямо сейчас ответа не жду. Понимаю, конечно, что глупо ожидать от нее признания. Хочется, дико хочется, но рано пока, наверное. Не готова она пока к таким признаниям, не готова до конца мне довериться, и это, конечно, жутко бесит, раздражает так, что меня лихорадит просто, но это не ее вина, естественно, а мудака того, что бросил ее беременную, наверняка навешав лапши в три короба, чтобы в трусы нырнуть.
И, сука, добился своего, а она, я полагаю, девчонкой восемнадцатилетней влюбилась и, как это часто у девочек наивных, добрых, слишком правильных бывает, утонула в нем, поверила. Таких, сука, уродов воспитывать надо жестко, чтобы девочек хороших не портили, чтобы детей им не делали и не сбегали, разбив вдребезги мечты розовые.
Я не ангел, конечно, нет. Вообще ни разу и никогда им не был. Но фиалок нежных таких никогда не трогал, не посмел бы просто. У меня все девчонки прожженные были, они прекрасно понимали на что шли, и чего хотели. Все по согласию, без претензий, потрахались и разошлись.
А таких наивняшек, как Александровна, я стороной обходил, потому что нельзя таких трогать, если реально ничего серьезного не планируешь. Потому что они другие, у них ценности другие и мир они видят иначе. И это же ясно как день. Надо быть уродом просто отбитым, чтобы ломать вот таких красных шапочек.
— Ну чего ты, Ксюш, чего испугалась? — улыбаюсь своей красе ненаглядной, бесконечно бы на нее смотрел и из рук не выпускал. И как я так втрескался?
А она взгляд потерянный отводит, руками мою футболку комкает, явно ища правильные слова в своей чудесной, полной воинственных тараканов головке.
— Я не знаю, что сказать, я…
Затыкаю ей рот, как умею, самым правильным, а главное, действенным способом. Просто целую ее, чтобы расслабилась, она всегда расслабляется, мне отдается, вся, без остатка. И я не знаю, что это: химия, физиологии — не важно. Главное, что Ксюша ко мне тянется, что меня хочет и мне сопротивляться не может. Все остальное вторично, решаемо.
— Не надо ничего говорить, малыш, я ответных признаний от тебя не жду.
— Не ждешь? — недоверчиво.
— Не жду, во всяком случае пока, — усмехаюсь, потому что она явно выдыхает с облегчением, дурочка моя. — Скажешь потом.
— Потом? — кажется, она все еще под впечатлением от моего внезапно прорвавшегося наружу признания.
— Когда полюбишь, — подмигиваю ей, — а ты меня полюбишь, Ксюш, — отхожу назад, выпускаю Александровну из объятий.
— А ты самоуверенный, да? — улыбается смущенно.
— Нет, Ксюш, просто я настолько офигенен, что у тебя никаких шансов.
Она смеется, так открыто, так заразительно, век бы смотрел.
— Так, Александровна, я там видел в холодосе помидоры с огурцами, так что, раз уж ты такая активная, на тебе салат. А мне надо позвонить.
Она кивает, а я разворачиваюсь и выхожу из кухни, иду в прихожую, из кармана куртки достаю телефон и набираю нужный мне номер. Длинные гудки раздаются из динамика, и лишь спустя несколько долгих секунд я слышу голос на другом конце «провода».
— Неожиданно, — не здороваясь, произносит Кир. В голосе слышится усмешка.
— Ага, я весь такой непредсказуемый.
— Ты по делу?
— Голос твой услышать хотел, — посмеиваюсь, слушая, как глава семейства, видимо, в очередной раз справляется с подгузником.
— Слава, я сам в состоянии его помыть, иди, блин, уже ляг, — кажется, я не вовремя, — так что ты там говорил, давай по-быстрому, я немного занят.