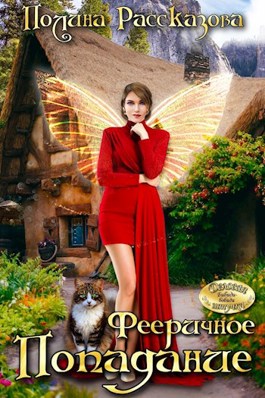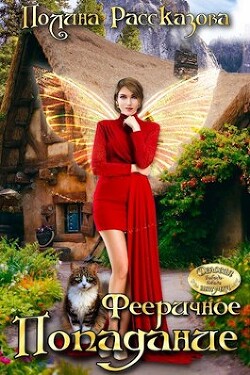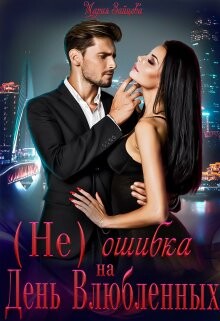на меня снизу вверх, неожиданно проворачивает фокус: хлопает ресницами, бледнеет, краснеет, кусает губу, дышит так, словно ей тяжело это дается, словно силы на исходе… А я замираю на этом представлении и жадно ловлю каждую смену эмоций на ее лице… Дурак, да. Знаю.
— Я не могу больше, гражданин начальник… — шепчет она с дрожью в голосе, — не могу… Устала так… Себя прокляла уже… Сил нет…
— Сука ты, Захарова, — давлю из последних сил агрессию, уже понимая, что все. Пиздец. Пиздец тебе настал, Федотов… И так сладко мне от этого, так кайфово, дрожью по коже, пузырьками по венам, — я же чуть не сдох… Вчера… А ты…
— А я — уже восьмой год подыхаю…
После этого я больше ничего не могу говорить.
Разжимаю кулаки, подхватываю Захарову за задницу и сажаю на высокий подоконник, чтоб хоть немного в росте с ней сравняться. И все равно наклоняюсь и ловлю ее влажные накусанные губы своими губами.
И да-а-а-а…
Если есть на свете рай, то вот он, здесь! В ее поцелуе, между ее ног…
Захарова стонет мне в губы, слабо и сладко, и это тоже заставляет волоски на коже дыбом вставать от возбуждения. Я словно в нирвану с ней погружаюсь, тону, тону, тону, захлебываясь ее поцелуем, ее вкусом, ее нежностью и такой нужной мне сейчас покорностью.
Не могу остановиться даже на то, чтоб воздуха глотнуть, кажется, что стоит оторваться, и все пропадет. И Захарова пропадет из моих рук, превратится опять в ту холодную стерву с мертвыми глазами, что убила меня вчера.
Я не хочу эту стерву, даже если она прячется где-то в моей чувственной, отзывчивой девочке, я ее уничтожу. Не допущу больше!
— Я хочу тебя, Захарова, хочу… — все же прекращаю я ее целовать, верней, перемещаюсь в другое место, скольжу раскрытым ртом по шее, спускаясь ниже, дергая ворот водолазки, короче, завоевывая плацдарм по полной программе, — насовсем хочу…
— И я… И я… — стонет она, лихорадочно стаскивая с меня куртку и ныряя холодными юркими пальчиками за пояс джинсов, — я рапорт хотела… После того, как доведу до конца… Я просто не могу больше, Вов… Я словно мертвая же… А ты…
— И я мертвый… — помогаю ей, раздираю с остервенением пряжку ремня, одновременно стягивая с Аси джинсы, хорошо, хоть не узкие, а свободные. Они легко скользят по тонким ногам, слетая вниз вместе с теплыми мягкими ботиночками, оставляя Захарову в одном простеньком светлом белье.
Я даже не снимаю его с нее, просто отодвигаю в сторону, одновременно притягивая Асю за бедра одной рукой и насаживая на себя быстро и на всю длину.
И это до того невероятно, что не могу стержаться, шиплю сквозь зубы:
— Бля-бля-бля-а-а-а… Захарова… Ты — охуенная…
И она полностью подтверждает мои слова, вскрикивая на мой первый глубокий толчок и сжимая собою внутри так сильно и влажно, что голова кружится от кайфа.
У меня было много женщин. Так много, что я не помню их имен, и лиц тоже не помню… Но круче того, что происходит сейчас, не ощущалось ничего и никогда.
Я не знаю, что будет дальше, но точно знаю, что с каждым моим движением сейчас стирается все прошлое: память, события, лица…
Мне не нужны чужие лица. Мне нужно только одно: родное. То, что сейчас передо мной. Я хочу целовать ее, хочу постоянно ощущать гладкость ее кожи губами, влажность ее рта, свежий аромат от волос, ловить языком бешено бьющуюся жилку на виске, сходить с ума от того, как мягко и нежно стонет моя женщина, как отдается, полностью, без остатка, целиком… Это — самое лучшее, что может происходить в жизни. Это — самое лучшее, что происходит в мире.
Захарова влажная, горячая, гибкая, словно кошечка, я закидываю ее ногу себе на плечо, врезаясь в бешеном темпе в податливую мягкость, не позволяя двинуться самостоятельно. Одной ладонью по-прежнему держу ее чуть ниже поясницы, прижимая к себе, так, чтоб до основания в нее, чтоб ни сантиметра между нами, а второй ладонью упираюсь в раму окна у ее головы, немного контролируя свои движения.
Скованная таким образом Захарова не может даже двигаться, просто покорно раскрывается еще шире, приникает к моей шее влажными, нежными губами, бесконтрольно скользя по коже и что-то шепча горячечно и страстно.
Похоже, она намучилась за это время, настрадалась, и теперь только отпустила себя полностью, раскрылась до конца, отдала мне себя без остатка.
И я принимаю все, что она мне отдает, забираю то, что пытается спрятать, все, все забираю!
Все мое теперь! И она тоже моя!
Больше никаких игр, никакой хрени между нами!
Все, Захарова, доигралась!
— Моя, моя, — рычу я, чувствуя, что скоро рвану, как сто тысяч сверхновых, голова кружится, подкатывает где-то внутри предвкушение такого будущего кайфа, что заранее все сжимается, готовясь. И мне хочется, чтоб Захарова разделила со мной этот взрыв, — со мной же? Да? Да?
И она стонет, вжимаясь все сильнее и обхватывая меня внутри так сильно и ритмично, что становится понятно, тоже долго не продержится:
— Да… Да… Боже… Да-а-а-а…
Она резко откидывает голову назад, и я едва успеваю поймать ее затылок и не позволить ему соприкоснуться со стеклом. Неистово вжимаю ее в себя и догоняю в нашем общем безумном кайфе.
Накрывает чем-то настолько запредельным, что даже на ногах стоять тяжело. Хорошо, что Захарова зафиксирована и сидит на подоконнике. Я наваливаюсь на нее, распластывая по стеклу и делая последние, самые жесткие, самые сладкие движения, освобождая себя от накопившегося ужаса, заменяя его длительным, безумным кайфом.
На последних секундах ощущаю, как Захарова кусает меня в шею, словно маленький котенок с очень острыми зубками, и это посылает дополнительную волну удовольствия по телу.
Я мягко целую Асю в мокрый висок, трусь щекой о нежную кожу ступни на моем плече и думаю о том, что сто процентов убил сейчас суку-Захарову. И правильно. Нечего ей делать рядом с моей девочкой.
— Федотов, напоминаю тебе, что ты прислан мне в подстраховку. И еще напоминаю, что, несмотря на то, что звание у тебя выше, веду