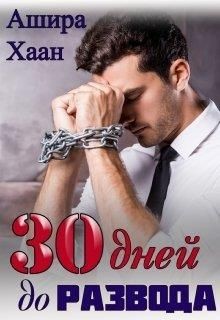— Что, упустил свою пташку? Поползешь обратно к Алке в ножки бросаться?
А я повернулся и спрашиваю:
— Когда она уехала?!
Она аж шарахнулась от меня. Запричитала:
— Богдаш, у тебя с глазами что-то! Нехорошее!
— Когда. Она. УЕХАЛА?!
А сам к ней двинулся.
— На ночном, к восьми в Москве будет!
И захлопнула дверь.
Да уже неважно было.
Я даже в аптеку не заскочил, хотя потом изрядно пожалел об этом. Так и ехал с дырявым боком, сверлом в виске и слипающимися глазами. Пару раз вильнул нехорошо, но собрался и…
— Дальше ты знаешь.
Гнал до последнего, потому что вбил себе в голову, что если успею к прибытию — то все отменится. Не будет этого долгого дня, когда она ждала меня, по капле теряя веру.
Пока подписывали свидетельство, мне рассказала та знакомая, что девушка с двумя чемоданами и в розовом платье весь день сидела у фонтана. Кто еще это мог быть? Кто еще во всем городе, во всей стране, во всем мире ждал бы вот так?
— Телефон так и не купил?
— Не-а. Я у тебя идиот, да?
— Еще какой…
Ее губы на моих губах, и светлые волосы щекотно скользят по груди — она склоняется надо мной, и руки-то у меня совсем не пострадали… И не только руки.
— Нет, Богдан, тебе нельзя!
— Кто сказал?
— У тебя сотрясение, тебе надо лежать!
— Я и буду лежать. А вот ты…
Мои руки касаются ее тела, очерчивают тонкую талию, обнимают мягкую грудь, проводят по животу — и она вздрагивает, подается ко мне, глаза туманятся от жажды, которая терзает и меня. Неужели ты надеялась устоять, моя хорошая? У тебя не было ни единого шанса с того момента, когда ты выпросила в подарок тот поцелуй.
И когда между нами начинают взрываться фейерверки, разнося по всему телу разноцветные искры удовольствия, что-то в голове щелкает, рассыпается огненными всполохами, и надоевшее сверло в виске тает, выпуская меня на свободу из царства боли.
На свободу.
Я теперь свободен.
И могу подарить эту самую главную ценность той, что единственная ее достойна.
Глава Тридцать дней до свадьбы
— Но там осталось кресло! Подвесное! И кровать наша! И пуфики.
— Перевезу сюда.
— И стены в маках! Стены ты как перевезешь? А? И птицы там пели за окном.
Я чуть не плачу, потому что для меня та съемная квартира Богдана, куда он ушел от Аллы и куда привел меня, где я готовила ему ужин, а он готовил мне завтрак, где крюк в потолке, береза за окном и маки, маки же! — она самая лучшая. Наша. На двоих.
— Покрашу. Поклею обои. Пересажу березу, перетащу солнце, чтобы вставало на севере, и птиц тоже смогу переубедить. Проще птиц, чем тебя!
Он смеется, я плачу.
Но знаю, что он, конечно, прав. Нам лучше перебраться в Москву: мне уже предложили тут работу, хотя я и планировала мужественно выживать за счет нашего с Русом браслетного бизнеса. Друзей у меня больше здесь, кофе тоже тут варят получше, а если я опять нечаянно соблазню чужого мужа, всегда можно переехать в соседний район — и начать все с начала.
Тем более что главная моя причина оставаться у родных пенатов сама уламывает меня переехать. За неделю жизни в столице Богдан успел выпить с бывшими однокурсниками, которые с таким энтузиазмом предложили ему участие в их новом проекте, что стало абсолютно ясно, кто там через полгода станет главным.
— Все будет, моя хорошая. И дом будет, где все по-твоему, и самая большая кровать в спальне, и кресло это, и сад, где ты посадишь яблоню с огромными белыми яблоками. И дети наши будут расти любимыми одинаково, потому что ты самая справедливая и добрая в мире Дашка.
Он останавливается, тянет меня за киоск с мороженым и там вжимает в гладкий тополиный ствол — и целует. Как так получается, что в каждом его поцелуе — все эти обещания и еще миллион будущих, спрессованные в единую белую вспышку, яркую, как сверхновая?
Все будет.
Майское солнце танцует теплыми босыми лучами на наших лицах, пробиваясь через свежие клейкие листики высоченного дерева. Богдан успел еще и снять нам уютную квартиру в самом центре, и зарегистрировать нас в ней, и теперь мы идем в загс, что прячется в одном из старых домов позапрошлого века, — подавать заявление.
Как он обещал. Ведь если Богдан обещал — он выполнит.
Мне страшно.
Если честно, мне страшно так, что я готова развернуться и бежать отсюда опрометью, запереться на десять замков, забиться в глубокое древнее кресло, доставшееся нам вместе со скрипучей кроватью и сонмом разнокалиберных чашек, завернуться в тот самый клетчатый плед и трястись от ужаса.
Пока не придет он, не устроится на полу, положив мне голову на колени, и не спросит:
— Ну что ты опять придумала себе, хорошая моя?
А я зароюсь пальцами в его темные пряди и тихонько расскажу. Может быть.
Сегодня утром, когда я вертелась перед зеркалом, примеряя летящую красную юбку с полосатой блузой и подбирала самые звонкие, самые весенние туфли и сумочку, телефон привычно звякнул пришедшим сообщением, и я подхватила его, все еще улыбаясь.
А там была всего одна ссылка. С удаленного уже аккаунта.
Хоть не открывай: сердце подсказывало, что ничего хорошего доставленные таким почтальоном новости не принесут. Но я видела, что ссылка ведет на паблик «Подслушано в N-ске», и не смогла удержаться.
С каждым прочитанным словом радость таяла стремительно, как майский снег.
Там была простая история женщины, вышедшей замуж рано — ей еще не было и двадцати.
Хотелось гулять, а она гладила рубашки и готовила ужины.
Хотелось стрелять глазками, а она обзаводилась полезными для бизнеса знакомствами.
Хотелось искать себя, а приходилось одеваться прилично и изображать идеальную жену.
И так десять лет.
Полжизни, потраченной на человека, который потом сказал, что никогда ее не любил.
Он даже не оглянулся на эти десять лет, не вспомнил, как она отказалась от своих интересов, чтобы поддержать его. И быть самой лучшей: любовницей, кухаркой, уборщицей, светской леди, шпионкой, секретаршей.
Все это оказалось ненужным, когда из Москвы приехала свежая, не замученная бытом красотка, которая тратила все время и деньги на то, чтобы выглядеть ухоженной и дорогой недотрогой. Ей не нужно было выпрашивать у мужа деньги на очередную помаду, которую он же с ее губ и слижет. Или на болезненную процедуру, без которой на нее и не посмотрит.
Эта была новенькой, красивой и умела играть грязно.
Дружить с соперницами, использовать их и выкидывать без жалости. Изображать святую невинность, хотя весь город знал, что она специализируется как раз на чужих мужьях.
И эта женщина, излив боль и горечь по поводу соперницы на три экрана, вдруг написала в конце: а я даже не знала, что уже больна. Просто когда он ушел, болезнь сожгла меня в считанные дни. Муж был смыслом моей жизни, а без него — зачем мне жить? Что я умею, кроме как работать его женой?
Без подписи.
Но, в общем, все ясно.
Кожа горела и чесалась от болезненной, острой вины.
Все так.
Откровенно и правдиво.
Только с ее точки зрения.
Ни единым словом я не могу отбить это обвинение.
Про любовь, что пробивает навылет, — не скажешь же?
Нашу правду будем знать только мы.
Наверное, Богдан прав. Все-таки мне больше не место в городе, где я родилась. Он вытолкнул меня из себя: три года назад — мягко, по-родительски, сейчас — жестоко, без права вернуться.
Поэтому я промолчу про ссылку.
Расскажу о других страхах.
— А вдруг… — бормочу я, крутя пуговицу на его светлой рубашке. — Вдруг ты женишься на мне, и окажется, что мы несовместимы? Ты не закрываешь колпачок на зубной пасте, заставишь меня гладить рубашки — а я ненавижу гладить! Вдруг я храплю во сне? Противно смеюсь? Хлюпаю, когда ем спагетти? Ты так боролся за совершенную незнакомку, Богдан! Вдруг столько всего — зря? И мы разойдемся, плюясь, через пару месяцев?