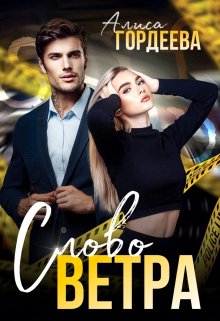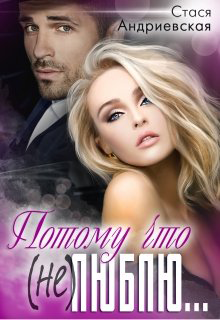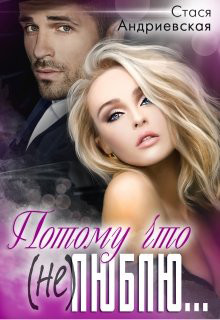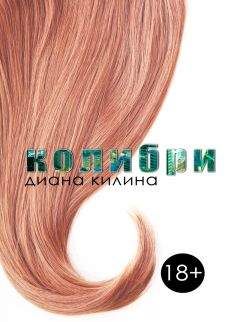class="p1">— Тс-с! — указательным пальцем Ветров проходится по моим губам. — Не спеши с отказом, Нана! У тебя есть время подумать. До вечера!
— Ненавижу тебя! — пытаюсь оттолкнуть подонка, но скорости реакции Ветрова остаётся только позавидовать. Он запросто перехватывает мои запястья своими лапами и продолжает разрушать меня словами.
— Взаимно, Нана! Только имей в виду, что завтра я улечу в любом случае, и лишь от тебя зависит: с акциями или без. Мне по большому счёту всё равно, а тебе?
— Скатертью дорожка, Моррис! Надеюсь, твой самолёт рухнет где-нибудь посреди океана!
— Сука! — срывается парень и, отпустив из плена запястья, грубыми пальцами сжимает в тисках мой подбородок, насильно вынуждая смотреть перед собой.
— Ты придёшь, — не спрашивает – утверждает.
Его глаза горят огнём слепой ярости, а губы кривятся в презрительной гримасе. Ноздри бешено расширяются при каждом вдохе, а на шее вздуваются жилы. Что ж, я несказанно рада буду спустить Ветрова с небес на землю!
— Никогда, — из последних сил улыбаюсь. — Я больше никогда не постучу в твою дверь, Ветров! Ты был моей ошибкой, только и всего! Но дважды я не ошибаюсь!
Сава хмыкает. Снисходительно мотает головой. Его уверенность в себе на грани фола! Он что-то пытается мне возразить, не переставая сжимать челюсть своими корявыми пальцами, но сегодня удача на моей стороне!
Металлический скрежет за спиной сменяется непередаваемым ощущением свободы. Проклятая дверь наконец открывается, а я практически вываливаюсь в больничный холл возле лифта. Всё просто: я тянула несчастную на себя, а она открывалась наружу.
Мимо ушей пропускаю замечания какой-то старушки в пёстром фланелевом халате, что едва не стала жертвой моего падения, и, на ходу вытирая слёзы, бегу в ординаторскую.
— У вас пять минут, — напоминает Евгений Николаевич прежде, чем открыть дверь в палату Чертова. — Не больше! — смотрит строго, с толикой недоверия.
Я не стала сваливать своё опоздание на долгое мытьё рук Людмилой Степановной, а призналась, что перепутала этажи и заблудилась. Я почти не солгала. Мне до сих пор непонятно, что я здесь делаю и зачем.
Разговор с Ветровым стал последней каплей. Нет в моём сердце больше ни злобы, ни желания мести — одна сплошная пустота! Мне не нужна дурацкая правда и акции компании Чертова тем более. Всё, о чём мечтаю, — схватить Маруську в охапку и улететь в Израиль. Моё место там, рядом с Владом. А Ветрова накажет сама жизнь. Я хочу в это верить!
— Никаких потрясений! — продолжает свой инструктаж доктор. — Резких слов, новостей и слёз! Любое волнение может негативно сказаться на состоянии Ивана Денисовича. Вы меня понимаете?
— Да, — уверенно киваю и даже умудряюсь улыбнуться.
— Ну-ну, — озадаченно качает головой Евгений Николаевич. Ну, конечно, не верит! Он же видит мои заплаканные глаза и распухший от слёз нос. И пусть списывает неважное состояние на волнение за деда, впускать меня в палату не спешит.
— Я всё понимаю, — заявляю в своё оправдание. — И если вы меня сейчас прогоните, молча уйду. Меньше всего я хочу навредить Ивану Денисовичу.
— По уму бы так и сделать, — поджимает и без того тонкие губы медик, но дверь в палату всё же открывает. — Пять минут!
Я долго не могу набраться смелости, чтобы переступить порог. Таким слабым и беспомощным я Чертова ещё никогда не видела. Даже в свои семьдесят пять он всегда всем своим видом внушал трепет и опасение, но, оказывается, перед лицом смерти мы все равны: обычные люди из крови и плоти, со своими страхами и болью.
В моих глазах – снова слёзы. Глупые щекочут горло и оставляют мокрые следы на щеках. А ещё очищают душу. Наверно, поэтому совершенно забываю про обиды и свои подозрения, и сорвавшись с места бегу к старику. Стараюсь не замечать пищащих приборов и внушающих ужас капельниц, глубоких теней под прикрытыми глазами Чертова и его посеревшего цвета лица. Иван Денисович жив, и это главное!
Я никогда не касалась старика раньше, да что там, я смотреть на него всегда опасалась, но сейчас интуитивно беру его за руку. Ладонь Чертова морщинистая, но удивительно мягкая, слабая, но обнадеживающе тёплая.
— Марьяна, — с трудом разомкнув веки, неразборчиво, но ласково бормочет старик. Вижу, как трудно ему говорить, как много сил отнимает каждый звук, а потому подношу палец к губам и по-доброму улыбаюсь: у нас ещё будет время на задушевные беседы…
— Прошу вас, не надо! Берегите силы, пожалуйста! Что-то во взгляде Чертова пробирает меня насквозь: здесь и радость, и волнение, и тревога, и что-то ещё… Тяжёлое, въедливое, необъяснимое. Трепетное, знакомое, дорогое…
Как зачарованная смотрю в разноцветные глаза старика и внезапно осознаю, что точно таким же взглядом на меня ещё пять минут назад смотрел Ветров. Только у Савы холодный серый и пряный коричный сплетены воедино, а у старика разнесены по разным глазам.
— Моррис ваш внук, да? — глупая догадка слетает с губ раньше, чем успеваю вспомнить наставления доктора: никаких потрясений! Впрочем, я и не жду, что старик воспримет меня всерьёз. Так, повеселится от души над моей бестолковостью. Да я и сама усмехаюсь произнесённой вслух ерунде. Чертов же, вопреки всем моим ожиданиям, в знак согласия прикрывает глаза, в уголках которых поблёскивают скупые слёзы, а прибор сбоку от него начинает всё скорее пищать.
— Марьяна, — доносится со спины встревоженный голос доктора. – Думаю, на сегодня достаточно!
— Да-да, — киваю Евгению Николаевичу, а сама не могу отпустить руки Чертова. Мотаю головой в неверии и чего-то жду. Быть может, знака, любой подсказки от старика. Я должна удостовериться, что снова всё неправильно поняла, ошиблась, сглупила. Но по тому, как начинает дрожать угловатый подбородок Ивана Денисовича, понимаю, что своим предположением попала в десятку.
— Не может этого быть, — шепчу почти беззвучно, окончательно позабыв, зачем пришла. — Вот почему вы всегда становились на его сторону, верили ему безоглядно и все прощали…
Чертов едва уловимо кивает, а я снова плачу. Как ни стараюсь скрыть от старика тот ураган мыслей и чувств, что сейчас бушует у меня внутри, ничего не выходит. Иван Денисович, как и я, стал жертвой безотчётной любви к Ветрову. Я с Чертовым отнюдь не по разные стороны баррикады, как виделось мне раньше, а сижу в одной лодке. Шаткой, дырявой, безнадёжной. И сейчас мы оба