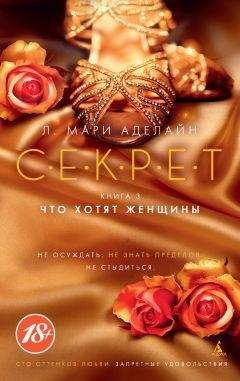Она обняла меня на прощание очень осторожно, чтобы ничего не испортить в безупречном произведении искусства, созданном ею.
Постукивая каблуками туфель за тысячу долларов по изумительному мраморному полу вестибюля, я по дороге к старинной вращающейся двери увидела в зеркалах нечто такое, что следовало прославить на века: не просто женщину, которая собиралась хорошо провести выходные, а женщину, достойную мировой славы, бесконечных слухов, разинутых ртов, огромных плакатов. Все головы тут же поворачивались в мою сторону, и это было потрясающе. Водитель лимузина усадил меня (и мои волосы) на заднее сиденье, и мы помчались куда-то.
Париж вечером выглядел пылающим, и мой взгляд метался по сторонам, ловя все детали: вот молодая пара входит рука об руку в какой-то ярко освещенный магазин, вот проносятся мимо какие-то памятники, вот художники рисуют прямо на улице, вот люди роются в книжных развалах на длинных столах вдоль тротуара. Мы проехали мимо нескольких кафе, расположенных на четырех углах перекрестка, а потом повернули на улицу, настолько узкую, что здания по обе ее стороны выглядели как белый мраморный тоннель без крыши. Мы остановились у некоего местечка с вывеской «Ше папас джаз-клуб», водитель помог мне выбраться из машины; ноги у меня почему-то ослабели.
– Добро пожаловать, – сказал швейцар со странным неопределимым акцентом. – Столик для вас заказан.
Внутри крошечная женщина, державшая в руке совсем уж крошечную папку с зажимом, быстро провела меня сквозь толпу, окружавшую сцену, мимо всех этих людей со сверкающими бокалами шампанского в руках, мимо меховых палантинов – к столику в стороне, где я и уселась под звуки музыкального вступления. Справа от меня появился официант с перекинутой через руку белой салфеткой, налил мне воды и предложил заказать спиртное.
– Кампари и содовая, s’il vous plaît.
И тут же свет в зале померк, а занавес поднялся, открыв четверых молодых людей; один держал в руках бас-гитару, другой – трубу, третий сидел за ударной установкой. Четвертым был гитарист, стоявший спиной к зрителям и настраивавший гитару. Когда он повернулся, я задохнулась. Конечно, это был не Джулиус, но если бы Джулиус застыл во времени двадцать лет назад, то выглядел бы именно так: это было его нежное, сексуальное, открытое лицо, и даже щель между зубами, и темная кожа, натянутая на крепкие мышцы, и даже его фирменная бородка-эспаньолка. У парня была улыбка Джулиуса, только на его лице не было следов каких-то тревог, бессонных ночей или бесконечных разочарований, развода, неудач, стресса. Как будто С.Е.К.Р.Е.Т. клонировал моего бывшего мужа, вернул ему то время, когда он был молод, счастлив, уверен в себе, когда он был моим. Вернул в те дни, когда мы были безупречны, совершенны.
Все разом словно нахлынуло на меня: те шумные ночи, дешевые бары, восторженный взгляд Джулиуса, стоящего у звуковой установки. Это было так весело! Но потом поздние репетиции уступили время занятиям. Мне нужно было получить образование, пришлось выбирать. Я знала, что сделала правильный выбор, я стремилась к своей цели, я поменяла увлечение на карьеру. Я должна была так поступить и никогда об этом не сожалела. И не оглядывалась назад. И тем не менее я оставила позади нечто жизненно важное, некую часть самой себя и даже не думала, что когда-либо эта моя часть мне понадобится или я по ней затоскую, не думала до настоящего момента.
Я выпрямилась, когда солист обхватил стойку микрофона, поудобнее пристраивая ее между ног. Потом взял несколько аккордов, а остальные музыканты следовали за ним. Парень придвинулся поближе к микрофону, его верхняя губа приподнялась, немного напомнив Элвиса, и вот он запел «My Funny Valentine».
Я чувствовала, как весь зал повернулся к нему: так цветы поворачивают свои головки к солнцу. Парню было едва ли больше двадцати пяти, ну, может быть, тридцать, он был молод, но пел так, словно занимался этим уже многие десятилетия, может быть, начал даже до войны или до двух войн. Потом исполнили «I Can’t Make You Love Me», и от этой мелодии у меня все вокруг заплясало. Затем парень принялся обмениваться шутками со зрителями. Конечно, он не был французом. Он был американцем. Он был южанином, как и я, и это одновременно казалось и нелепым, и немножко успокаивающим.
– Леди и джентльмены! Мне понадобится кое-какая помощь для следующей песни, – сказал гитарист, перебирая струны. – Это одна из моих любимых.
По толпе пробежал легкий шумок.
– Где Соланж Томпсон? – спросил гитарист, прикрывая глаза ладонью от света прожекторов. – Думаю, она здесь.
Соланж Томпсон? Я даже не сразу поняла, что он говорит обо мне, обращается ко мне, потому что он назвал мою девичью фамилию. А потом ощутила, как кто-то взял меня под руку и заставил подняться на ноги; это была та самая крошечная женщина с папкой.
– Вы ведь будете так добры, чтобы присоединиться к Алену? – спросила она, подталкивая меня к сцене.
– Ох, нет, это, должно быть, какая-то ошиб…
– А, вот она! – воскликнул Ален, и тут же на меня упал луч прожектора.
– Я польщена, н-но… – пробормотала я, пытаясь устоять перед нажимом женщины, но не в силах устоять перед Аленом. – Я так давно ничего такого не делала…
Мои протесты не принесли никакого результата. Меня подталкивали все ближе и ближе к усмехавшемуся Алену и его музыкантам, причем один из парней уже устанавливал перед микрофоном высокий табурет.
– Леди и джентльмены! – снова заговорил Ален, протягивая мне руку, чтобы помочь подняться по ступенькам на сцену. – Прошу приветствовать Соланж Томпсон!
Сквозь шум аплодисментов я попыталась заранее принести извинения за то, что, без сомнения, должно было стать полным провалом. Но вот аплодисменты стихли, а в моей руке оказался микрофон. То, что произошло потом, случилось лишь потому, что у меня просто не было времени на какие-то уточнения, паузы, группа сразу заиграла «Summertime», одну из моих любимых песен, и я уже не могла просто сбежать. Что-то нахлынуло на меня, что-то давнее и прекрасное, нечто, впечатанное в мою ДНК. Мое тело само поднялось с табурета и начало двигаться в такт вступлению, мои глаза закрылись, рука начала похлопывать по бедру. А потом я открыла рот и запела. Я произносила слова, давным-давно хранившиеся в кладовых моей памяти, и пела я хорошо. Ален наклонился вперед. Некоторое время мы пели вместе, и наши губы, находясь в нескольких дюймах друг от друга, действовали в полной гармонии, как будто мы уже давным-давно выступали вместе. Мои глаза начало пощипывать от подступивших слез. Но я не плакала. Это не было печалью. Это была давно забытая радость. А когда толпа захлопала и несколько человек впереди даже вскочили на ноги, я готова была расцеловать каждого из этих милых французов.