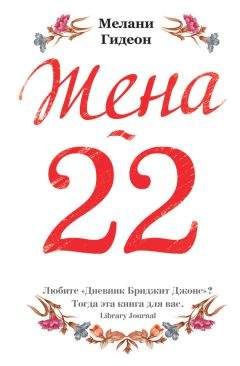– Вот, пожалуйста.
– Спасибо.
– Что теперь?
Зои пожимает плечами и садится за стол.
– Будем ждать.
Несколько минут мы сидим молча.
– Как я рада, что ты не из тех девочек, которые боятся мышей, – говорю я.
– Благодаря тебе – нет.
Мы слышим, как мышь скребется под холодильником.
– Принести метлу? – спрашиваю я.
– Нет! Так ты можешь ее напугать. Пусть сама вылезет.
Мы проводим в молчании еще пять минут. Снова слышим звуки мышиной возни, на этот раз более громкие.
– Слон в посудной лавке, – говорю я.
Глаза Зои внезапно наполняются слезами, и она опускает голову.
– Я не хотела, чтобы тебе было за меня стыдно, – шепчет она.
– Зои. Почему мне должно быть стыдно?
– Просто так получилось. Я не хотела. Джуд был в Голливуде. Купался в славе. А здесь был этот парень. Он меня поцеловал. Сначала я не хотела с ним целоваться. Но потом начала целоваться как ненормальная. Я – шлюха, – всхлипывает она. – Я недостойна Джуда.
– Никакая ты не шлюха. И чтобы я никогда больше не слышала, что ты себя так называешь! Зои, тебе пятнадцать лет. Ну ошиблась. Неправильно себя повела. Почему бы тебе прямо не объяснить это Джуду? Он тобой восхищается. Неужели он в конце концов не поймет?
– Я ему рассказала. Еще тогда.
– И что он?
– Он меня простил.
– Но ты сама себя не простила. И поэтому появилась Хо-Герл?
Зои кивает.
– Хорошо, пусть так. Но кое-чего я не понимаю. Для меня не так важен поцелуй, как то, почему ты так плохо обращаешься с Джудом. Он ходит за тобой по пятам, как щенок. Он ради тебя готов на все.
– Мне перед ним стыдно.
– И поэтому ты предпочитаешь убежать и спрятаться?
– Я научилась этому у тебя, – бормочет она.
– Чему ты научилась у меня?
– Убегать и прятаться.
– Ты считаешь, что я прячусь? От чего?
– От всего .
У меня такое чувство, будто меня ударили под дых.
– Правда? Ты правда так думаешь? – спрашиваю я.
– В общем-то да, – шепчет Зои.
– Зои. Боже мой, – вздыхаю я и замолкаю.
В этот момент мышь проскальзывает под стол.
Я поджимаю ноги, и мы с Зои, выпучив глаза, смотрим друг на друга. Она прикладывает палец к губам и едва слышно шепчет:
– Ни звука!
– Ай-ай-ай! – в ответ беззвучно кричу я.
Зои, борясь со смехом, очень медленно соскальзывает со стула и опускается на четвереньки, держа контейнер наготове. Почти сразу же я слышу хлопок: пластик ударяется о пол.
– Есть! – кричит Зои и выползает из-под стола, толкая перед собой перевернутый контейнер. Мышь не шевелится.
– Ты ее убила? – спрашиваю я.
– Нет, конечно, – Зои стучит пальцами по пластику. – Она притворяется дохлой. Она до смерти перепугана.
– Где мы ее выпустим?
– Ты идешь со мной? – удивляется Зои. – Ты же никогда со мной не ходишь. Ты боишься мышей.
– Да, я иду с тобой, – говорю я, доставая из мусорного ящика кусок картона. – Готова? – Я просовываю картонку под контейнер, и мы выходим через заднюю дверь. Зои прижимает коробку сверху, я держу картонку снизу. Передвигаясь таким неуклюжим способом, мы поднимаемся по склону к эвкалиптовой роще. Потом мы одновременно наклоняемся и опускаем контейнер на землю. Я выдергиваю картонку.
– Прощай, маленькая мышка, – поет Зои и поднимает контейнер.
Мышь мгновенно исчезает.
– Почему-то всегда, когда я их выпускаю, мне становится грустно, – говорит Зои.
– Потому что тебе приходится их ловить?
– Нет, потому что я боюсь, что они никогда не найдут дорогу домой, – отвечает Зои, и у нее на глазах снова выступают слезы.
Мне приходит в голову, что сейчас Зои ровно столько лет, сколько было мне, когда я лишилась матери. В Зои больше от Баклов, чем от Арчеров. У нее хорошие волосы – в смысле такие, с которыми не нужно постоянно возиться. Прекрасная чистая кожа. Счастливица, ростом она пошла в Уильяма: в ней пять футов семь дюймов. Но где я вижу себя и весь род Арчеров – так это в ее глазах. Сходство особенно заметно, когда ей грустно. Движение, каким она смахивает слезы с чернильно-темных ресниц. То, как ее глаза переходят от темно-синего к цвету бурного серо-голубого моря. Это я. И это моя мать. Прямо здесь.
– Ох, Зои. Родная моя. У тебя такое доброе сердце. Всегда было. Даже когда ты была совсем маленькой. – Я осторожно ее обнимаю.
– Я не должна была говорить тебе эти жуткие вещи. Это неправда. Ты не прячешься, – говорит она.
– Может, это и правда. Отчасти.
– Прости меня. Мне стыдно.
– Я знаю.
– Я дура.
– Это я тоже знаю, – говорю я, шутливо ткнув ее кулаком в плечо. Зои морщится.
– Зои, милая, посмотри на меня.
Она поворачивается и смотрит, покусывая нижнюю губу.
– Скажи, ты любишь Джуда?
– Мне кажется, да.
– Тогда сделай мне одолжение.
– Какое?
Я дотрагиваюсь до ее щеки.
– Ради бога, хватит тянуть. Признайся ему.
– Кто играет главного героя во втором составе? – спрашивает Джек. Прищурившись, он изучает программку. – Не могу прочитать. Элис, ты можешь?
Я пытаюсь.
– Разве это вообще можно прочитать? Совсем мелкий шрифт.
– Возьми. – Банни протягивает мне очки для чтения. Очки ужасно стильные – квадратные, серый металлик.
– Нет, спасибо, – говорю я.
– Я купила их для тебя.
– Для меня? Зачем?
– Потому что ты уже не можешь читать мелкие буквы и пора взглянуть правде в глаза.
– Я не могу читать микроскопические буквы. Очень мило с твоей стороны, но они мне не нужны. – Я возвращаю ей очки.
– Боже, как я люблю театр, – говорю я, глядя, как люди рассаживаются. – Театр Беркли совсем недалеко от нас. Почему мы так редко сюда ходим?
Свет постепенно гаснет, и в зале воцаряется тишина, только несколько опоздавших еще ищут свои места. Больше всего я люблю эти мгновения. Когда занавес вот-вот поднимется и все надежды еще впереди. Я смотрю на Уильяма. На нем облегающие прямого покроя брюки, которые подчеркивают его мускулистые ноги. Все эти пробежки были не напрасны.
– Начали, – шепчет Банни, когда занавес медленно раздвигается.
– Спасибо, что вытащили, – говорю я, пожимая ее руку.
– Переписываться с Хо-Герл было куда веселее, – говорит Уильям сорок пять минут спустя.
Антракт. Вместе с десятками зрителей мы стоим в очереди в буфет.
– Как они только это выпустили, удивляюсь, – говорит Джек. – Спектакль совершенно сырой.
– Это ее первая пьеса, – замечает Банни. – Надеюсь, у нее достаточно толстая кожа.
Все вдруг почему-то смотрят на меня.
– Ох, прости, Элис. Это было ужасно неделикатно, – говорит Банни.
– Ерунда, Банни, ты это хотела сказать? Что это было бледно, скучно и глупо, увы, боюсь, совсем как “Барменша”.
Глаза Банни загораются радостью.
– Ай да Элис, браво! Давно пора было взглянуть правде в глаза. Сбросить с себя этот груз старых рецензий, вместо того чтобы годами сгибаться под его тяжестью. И наконец выпрямить спину.
Она мне подмигивает. Сегодня утром я наконец набралась храбрости и показала ей свои наброски. В последнее время я стараюсь писать понемногу каждый день и потихоньку вхожу в ритм.
– Сколько лет автору?
– Судя по фотографии, слегка за тридцать, – говорит Уильям, заглянув в программку.
– Бедняжка, – говорю я.
– Вовсе не обязательно, – возражает Банни. – Это так мучительно, потому что большинство из нас переживает свои провалы за закрытыми дверями. А когда ты пишешь пьесы, все это происходит в открытую, на сцене. Но здесь же и открываются своего рода возможности. “На миру и смерть красна”. Все видят твое падение, зато потом все могут увидеть, как ты встаешь. Нет ничего лучше достойного возвращения.
– А если ты все падаешь, и падаешь, и падаешь? – спрашиваю я, вспоминая статусы Уильяма в Фейсбуке.
– Так не бывает, если ты остаешься верна себе. Рано или поздно ты поднимешься.
Перед нами в очереди всего три человека. Ужасно хочется пить. Почему же так долго? Я слышу, как женщина впереди выговаривает бармену за то, что у него нет водки “Грей Гуз”, и замираю. Какой-то знакомый голос. Когда женщина спрашивает, есть ли у них пиво “Грюнер Вельтлинер”, а бармен предлагает ей шардоне, я узнаю ее и чуть не вскрикиваю. Это миссис Норман, мать-наркоманка.
Первый порыв – убежать и спрятаться, но потом я думаю: а чего мне скрываться? Я не сделала ничего дурного. “Держи спину прямо, Элис”, – звучит у меня в голове отцовский голос. Моя сутулость становится особенно заметной, когда я нервничаю.
– “Саттер Крик”, можешь себе представить? – возмущается миссис Норман, отходя от стойки. Ее взгляд падает на меня.
Выпрямив спину, я отвечаю ей полуулыбкой и кивком.