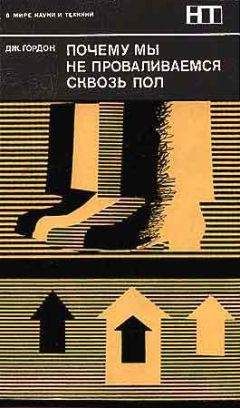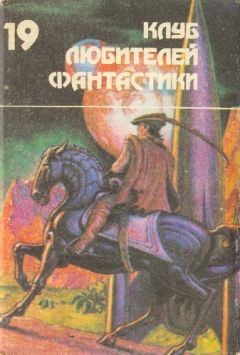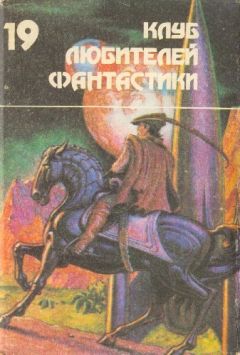классика сохраняла свое методологическое значение. Допущение «исторических рамок», детерминировавших ход и исход революции интересами буржуазии и задачами перехода от феодализма к капитализму, было характерно для многих выступлений за «круглым столом».
Такой подход демонстрировал вполне ту самую особенность советской историографии, которую Черткова назвала «финализмом». «Речь идет, – говорила она, – о стремлении рассматривать революцию прежде всего с точки зрения ее результатов, осуществления ею тех задач, которые перед ней стояли (притом, естественно, не может не предполагаться, что эти цели и задачи нам известны…). Этот подход оказался в свое время чрезвычайно плодотворным и очень много дал науке. Однако мне кажется, что на сегодня (хотя весьма возможно, что не навеки) он как бы “уперся в стену” (курсив мой. – А.Г.)». В качестве альтернативы Черткова предлагала «отнюдь не отказываясь от стадиальной характеристики революции посмотреть на нее… от истоков, а не от результатов» с тем, чтобы увидеть «диалектику детерминированности и альтернативности» не только «в предпосылках революции», но и в «самом революционном процессе» [1198].
Корень проблемы оказывался именно в «дипломатических» оговорках, которыми Черткова сопровождала свои проницательные замечания. Альтернативность уже у всех тогда была на слуху, а Черняк даже сфокусировал свой взгляд на ней, описав четыре альтернативы революционного процесса в якобинский период. Пикантность их выбора заключалась именно в уверенности советского историка в том, что цели и задачи революции ему известны.
Мало того, что толкование «целей революции» с неизбежностью заводило историческую мысль в сферу телеологии (почему и сам подход, деликатно названный Чертковой «финалистским», в истории философии соответственно и квалифицировался). Формулируя «задачи революции», – а этим в юбилейный период занимался, понятно, не только упомянутый историк – последний исходил из стадиально-формационной схемы, идеологически ориентированной на поступательное движение человечества к социализму.
В письме отцу в 1989 г. Адо писал, в частности, что ему кажется более разумным не «классовый подход» к истории, а «социальный анализ», что ему видится догматичной традиционная точка отсчета – исходить из задач буржуазной революции. «Здесь опять же телеологические представления, что есть некие “задачи” буржуазной революции, изначально предписанные неким высшим разумом, и странам и народам надлежит эти задачи исполнять, а историкам – следить, как эти задания были выполнены (или не выполнены)» [1199].
Впрочем, в ходе юбилейных дебатов в формационную схему вносились различные поправки. Необходимость осмысления революции в контексте целой переходной эпохи от феодализма к капитализму отстаивали Адо, Сытин, Черняк. Стремясь совместить этот подход с бытовавшим в советской историографии (революция – рубеж между феодализмом и капитализмом), вызвавшим своим механицизмом насмешки «ревизионистов», Адо предлагал новую трактовку революции – «не как жесткая финальная дата падения феодализма и полного утверждения капитализма, а как важнейший “событийный” рубеж… межформационного перехода». «Выросшее» из «процесса большой исторической длительности» такое «мощное и единовременное» «волевое усилие большинства народа» внесло в этот процесс, по мысли Адо, «изменения принципиального порядка», переведя «на новую колею» и придав «более мощный и современный движитель» [1200].
Молодые историки, ученики Адо пошли дальше. Раскрывая составляющие исторического «перехода», Пименова предложила избегать привязки Старого порядка к формационному определению: «экономика была многоукладной», в государстве и обществе «сложное переплетение разнородных элементов». Да, «сохранялись комплекс феодальных повинностей, сословное неравенство, провинциальный партикуляризм, цеховые регламенты и другие феодальные по происхождению элементы, главным образом государственно-правовой системы». Но, задавалась вопросами молодой историк, были ли они «определяющими, ключевыми» и «не изменилось ли их содержание с течением времени»?
«На современном уровне знаний, – заключала Пименова, – у нас нет оснований характеризовать систему общественных отношений предреволюционной Франции в целом как феодальный строй… Лучше пользоваться… термином Старый порядок». Благодаря своей неопределенности (формационной) он «не навязывает… готовой концепции, под которую пришлось бы подгонять факты». В то же время – и это было особенно перспективно – Пименова обращала внимание на многоуровневое содержание процессов, сопровождавших стадиальный переход: «конец биолого-демографического Старого порядка в XVIII веке, свержение государственно-правового Старого порядка в ходе Французской революции, уничтожение социально-экономического Старого порядка в ходе начавшейся в XIX веке промышленной революции» [1201].
Об относительной автономности процессов, происходивших в различных сферах общественной жизни, и несводимости их к экономической первопричине говорили различные участники «круглого стола». Социальное, в глазах выступавших, уже не требовало обязательного экономического дополнения по образу классического бинома советской историографии (пресловутой «соцэйки»), намечались подходы и «от культуры», и «от политики», и «от экономики».
Универсализация законов классовой борьбы и абсолютизация самого явления приводили к тому, что эти законы навязывались тем сферам, где они заведомо не действовали. «Пасынком нашей исторической науки, – говорил А.В. Ревякин, – стала экономическая история, где традиционное для классового подхода деление на “наших” и “врагов” оказалось не особенно плодотворным». Взаимоотношения между такими категориями, как «производитель» и «потребитель», «спрос» и «предложение», «строятся по иным законам, пренебрегая которыми, в экономической истории ничего не поймешь» [1202].
Эмансипация от классово-формационной схемы позволила Ревякину внести свой вклад в полемику о роли революции в экономическом развитии Франции. К идеологическим спорам, плодотворной либо бесплодной и даже вредной была она в экономической сфере, Ревякин предложил корректную поправку. Он отметил, что важнейшие негативные для французской экономики явления не были обусловлены революцией как таковой, а были следствием международной ситуации (крах внешней торговли, упадок «атлантического», т. е. рассчитанного на колониальные связи сектора промышленности). И вопрос о влиянии революции в краткосрочной перспективе следует сформулировать так: «почему французская экономика сумела не только выдержать все испытания, но обернуть их себе на благо?».
Вот и оказывается, по Ревякину, что решающую роль в преодолении кризиса и последующем развертывании промышленной революции сыграл человеческий фактор – «взрыв хозяйственной инициативы», выход в предпринимательство представителей различных слоев, в том числе из низов общества, и, в конечном счете, формирование нового типа деловых людей, сменивших старую, дореволюционную буржуазию. Возможности для их выдвижения и простор для их деятельности создали, в свою очередь, революционные преобразования [1203].
Дефекты классового подхода с присущей ему универсализацией классовой борьбы обнаружились даже в той проблематике, где он, казалось, должен был действовать безупречно. Симптоматично, что культурно-историческое измерение было востребовано прежде всего в излюбленном поле советской историографии – изучении народных движений. Ученицы Адо З.А. Чеканцева и Е.О. Обичкина обратились, и это очень показательно, к разработкам французских исследователей (Ж. Николя, И.М. Берсе, М. Вовель и др.).
Вновь задумались об «автономности», по Лефевру, крестьянского движения. «Традиционная марксистская оценка его остается в силе, – заявляла Обичкина, – но две неразрывные стороны одной большой проблемы – крестьянство и французская революция – могут быть рассмотрены… с точки зрения особой крестьянской линии борьбы». Рассматривая эту линию, молодой историк доказывала «социально-психологическую» общность антифеодальных и антиреволюционных выступлений. Правда,