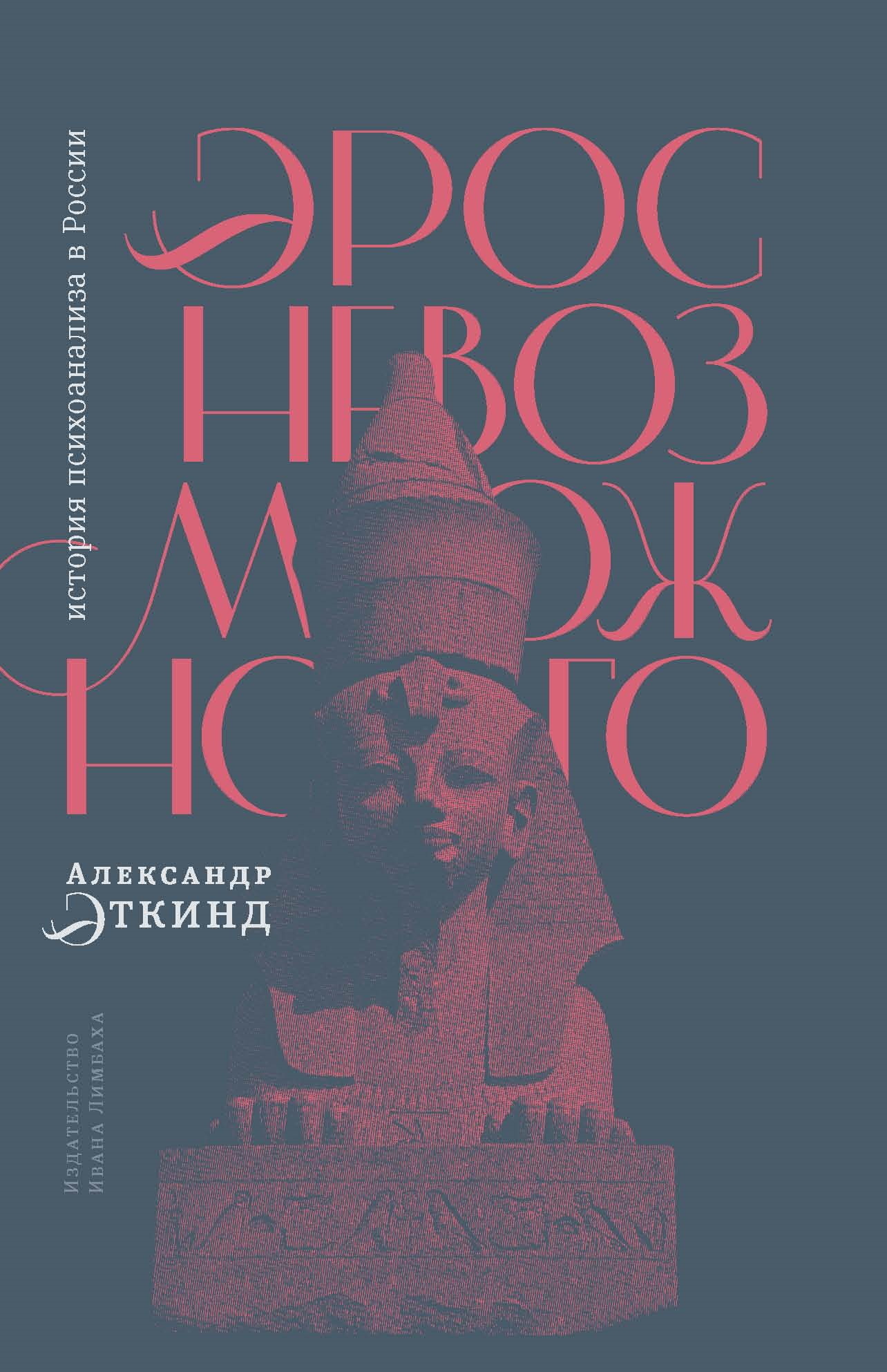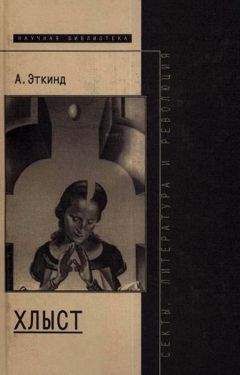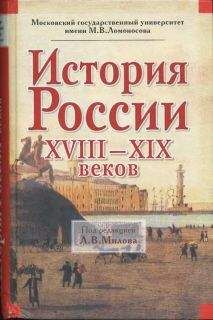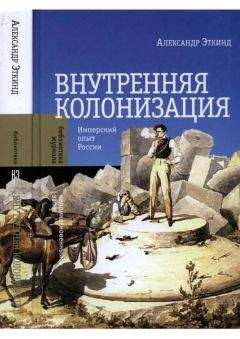в аналитический контекст новые представления о значении эмбрионального и родового опыта, которые окажутся чрезвычайно перспективными для психотерапии. Бахтин, знавший эту книгу, воспринимал ее как психоанализ, доведенный до абсурда; Эйзенштейн же был увлечен идеей обратного стремления в материнское лоно, придающей такой конкретный характер мифу возрождения. Как рассказывает исследователь его архива, он пытался объяснить таким образом множество явлений культуры вплоть до детективных романов, которые, подобно мифу о Минотавре или библейской истории об Ионе, все сосредоточены на первичном стремлении найти высшую истину в тайном и недоступном пространстве, прообразом которого является материнское лоно.
Человек универсальной одаренности, Эйзенштейн идентифицировал себя с Леонардо да Винчи, и сравнение Эйзенштейна с Леонардо стало популярной темой западных очерков о режиссере. То, что мы знаем о его личной жизни, позволяет думать, что и она была в достаточной мере схожей с жизнью Леонардо, как ее описывал Фрейд. Розанов, конечно, с удовольствием зачислил бы Эйзенштейна в свою коллекцию «людей лунного света». Сам Эйзенштейн, однако, рассказывал своему биографу Мари Сетон: «Многие говорят обо мне, что я гомосексуалист. Я никогда им не был… Я думаю, что у меня должны быть бисексуальные тенденции».
Вместе с Соловьевым, Ивановым, Бердяевым, Бахтиным и другими выразителями «русской идеи» Эйзенштейн всерьез относился к платоновской идее андрогинии как идеала целостного человека. Сверхчеловеческая сущность виделась ему в идее «исходного андрогинного существа, затем разделенного на два разобщенных начала – мужское и женское, которые в брачном сочетании празднуют новое восстановление этого исходного первичного, единого бисексуального начала». «Везде и всегда достижение этих черт первичного божества связывается с могуществом достичь сверхчеловеческого состояния… У Ницше этот элемент присутствует в образе Заратустры и в те моменты самоизлияния о себе, в которые автор сливается с создаваемым им образом сверхчеловечества… мы имеем оборот вперед – в идеал исходного, первичного дочеловеческого состояния». В другом месте, однако, Эйзенштейн говорит о том, что впервые проблема андрогинии заняла его не после «Заратустры» Ницше, а после «Леонардо» Фрейда. Но везде он устанавливает «связь представления о сверхчеловеческом с андрогинным комплексом».
Он напряженно борется с тем, что в соответствии с глубоко укорененной русской традицией воспринимал как пансексуализм Фрейда (на деле за этой борьбой часто стояло раздражение его индивидуализмом). Как Эйзенштейн рассказывал в своих мемуарах, с течением лет он понял, что «первичный импульсный фонд шире, нежели узкосексуальный, как его видит Фрейд». Бессознательное для него – это отражение самых ранних и недифференцированных уровней социального бытия. В интроспекции Эйзенштейна оно включает в себя секс, но не порабощено им. Секс – это лишь «биологическое приключение человеческих особей», а Эйзенштейна «тянет в недостижимые для ограниченной особи космические формы целостного слияния». Этнографическая первобытность, столь модная в те десятилетия, когда Фрезер стал замещать в умах интеллектуалов и Маркса, и Фрейда, интересует Эйзенштейна более всего как путь к синкретическому единству. «Я бы о себе сказал: этот автор кажется раз и навсегда ушибленным одной идеей, одной темой, одним сюжетом —… конечной идеей достижения единства».
Читатель узнает здесь новое воплощение знакомых идей Ницше и Вячеслава Иванова. И действительно: «…персонификация моих „начал“… – это, конечно, Дионис и Аполлон»; синтез же их Эйзенштейн, как и Рильке, видел в Орфее. Искусство, подобно алкоголю, возвращает человека вспять или вниз, к глубинам пра-логического, к Дионису. Но есть и разница: в отличие от Иванова, Эйзенштейн испытал на себе затягивающий соблазн масс, и для него возвращение вспять или вниз – не вопрос салонных дискуссий, а реальная жизненная возможность: достаточно выйти на улицу, к бушующей толпе. Или снять фильм о ней.
«Наиболее интересны промежуточные состояния: ни сон, ни явь». Для Эйзенштейна «королевской дорогой» к бессознательному оказываются не сновидения, а измененные состояния сознания. Они одновременно являются сверх- и дочеловеческими, и Эйзенштейн исследует их с практичностью продюсера, готового использовать информацию в деле. Он, в частности, описывал «ритмический барабан» как средство «временного выключения верхних слоев сознания и полного погружения в чувственное мышление». По аналогии с шаманами и русскими хлыстами он размышлял о механизмах культового экстаза, основанных на «психическом барабане», «когда в сознании должен беспрерывно повторяться один и тот же образ, облаченный в разные формы». Он пытался вести исследования этих экстатических мгновений – религиозного экстаза по старым книгам иезуитов, наркотического при знакомстве с мескалиновой интоксикацией индейских племен в Мексике…
Советский опыт был для Эйзенштейна богатым источником наблюдений. Он использовал их не в своих текстах, построенных как серия свободных ассоциаций, но предназначенных для печати и потому подлежащих цензуре и самоцензуре, а в гораздо более важном и одновременно менее контролируемом образном материале – фильмах. «Стачка», «Октябрь», «Броненосец „Потемкин“» полны массовых сцен паники и насилия, которые могли бы иллюстрировать фрейдовскую «Психологию масс и анализ человеческого Я» (которую Эйзенштейн наверняка знал), но несут противоположный эмоциональный заряд. В отличие от Фрейда, Эйзенштейн не испытывает отвращения к гипнозу масс. Наоборот, его тянет раствориться в толпе, и он приглашает туда же своего зрителя.
И зритель шел; не случайно именно эти сцены (лестница в «Потемкине», массовки в «Стачке», потом и пляски в «Иване Грозном») стали самыми знаменитыми. Именно на подлинных героев Эйзенштейна, на его небывало выразительные массы шли смотреть сотни тысяч революционно настроенных зрителей во всех странах мира. Посмотрев фильм, Геббельс призвал своих кинематографистов снять своего нацистского «Потемкина». Эти люди лучше нас чувствовали эротику единого, открытого, бесполого и возрождающегося тела толпы, в которой, как в матке, успокаивается отдельный человек. Эротика толпы, это финальное развитие платоновского Эроса, осуществляла на деле смутные мечтания Ницше и Иванова… В Эйзенштейне «век толпы» нашел своего самого выдающегося художника.
Когда Эйзенштейн переходит к индивидуальному человеку, его героем становится вождь – всевластный, жестокий и необъяснимый герой толпы. «В моих фильмах расстреливают толпы людей, давят копытами черепа батраков, закопанных по горло в землю… давят детей на Одесской лестнице, бросают с крыши… дают их убивать своим же родителям». Список ужасов занимает полстраницы и завершается логичным переходом: «…совершенно неслучайным кажется, что на целый ряд лет властителем дум и любимым героем моим становится… царь Иван Васильевич Грозный».
В фильме «Иван Грозный», снятом по прямому заказу Сталина, Эйзенштейн отстраненно, но необыкновенно красиво рисует чудовищную жестокость этого первого диктатора России. Свою любовь к показу жестоких сцен он объяснял впечатлениями своего детства, и такой же по происхождению он считал жестокость самого Грозного. Жестокость царя кажется Эйзенштейну соответствующей требованиям времени: Иван провел с ее помощью «прогрессивные государственные мероприятия». Режиссер явственно отождествляет себя со своим героем (за которым Сталин)