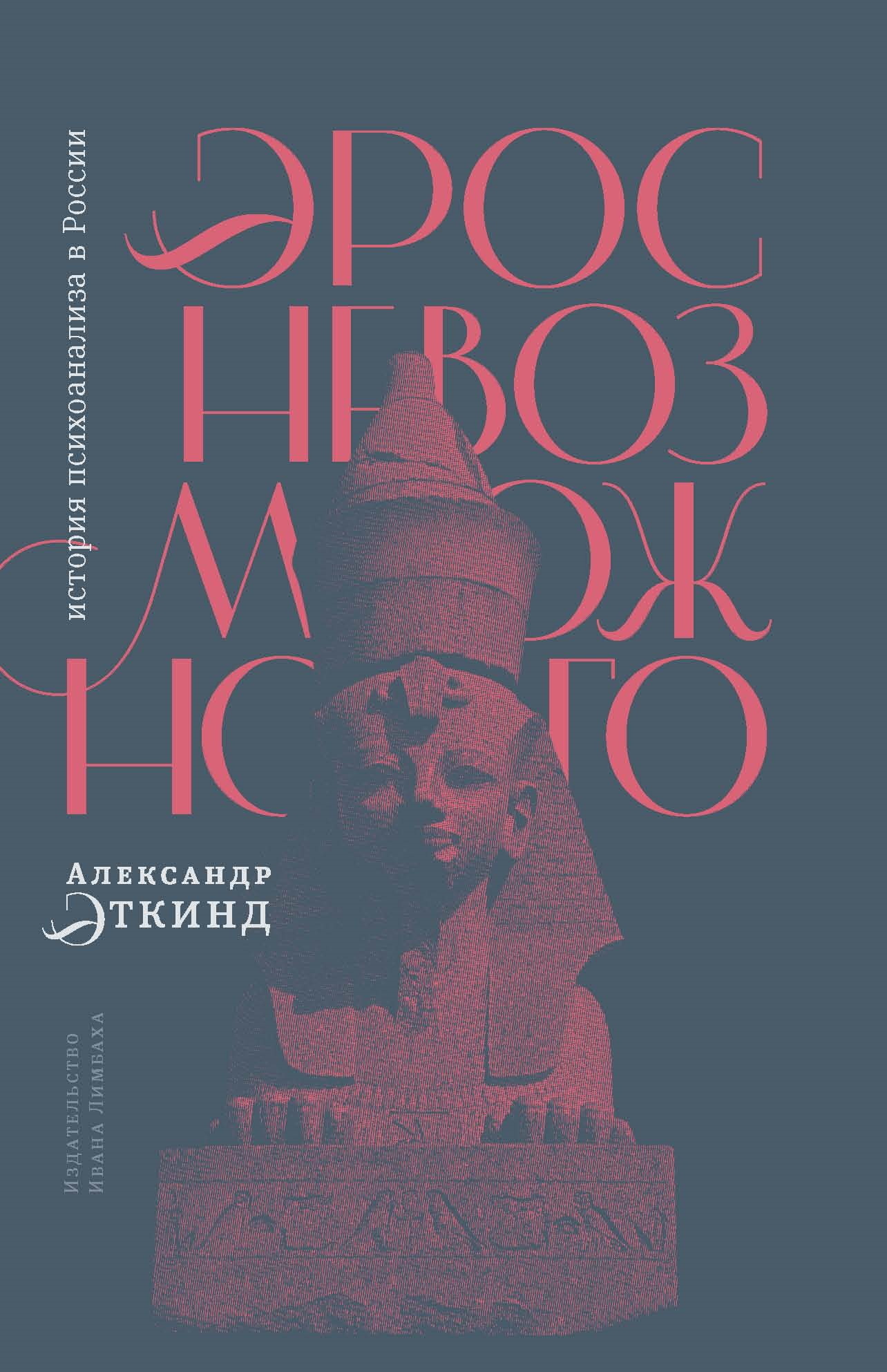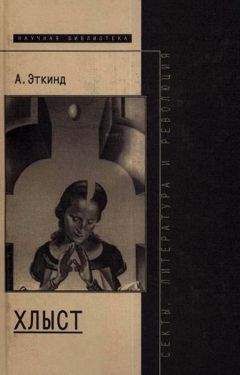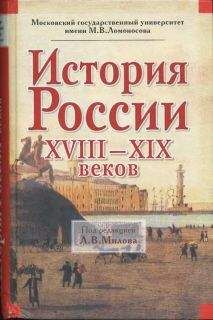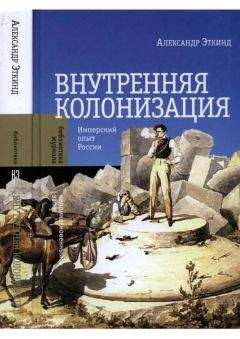болезни (его с юности мучил остеомиелит, закончившийся ампутацией ноги), прошел через советский ад, сумев реализовать в совершенно неподходящих условиях их общие юношеские прозрения.
Проблема, которая занимала Бахтина в течение всей его творческой жизни, – это проблема отношения я и другого. Для русской или, может быть, вернее в данном случае сказать, восточно-европейской мысли эта проблема была не новой. Свои варианты ее решения, иудаистский и православный, предлагали, например, Мартин Бубер и Алексей Ухтомский. Эта проблема станет ключевой для западной гуманитарной науки последней трети столетия; она составит одну из основных тем того ее направления, которое известно как постмодернизм. Некоторые общие для него идеи Бахтину удалось сформулировать раньше и точнее его западных коллег.
Главное слово в текстах Бахтина – диалог. Бахтин придал диалогу и диалогизму значение общегуманитарной идеи, одновременно описывающей человеческую реальность и предписывающей определенный подход к этой реальности. Его дискурс весь разивается в противопоставлении монологизму традиционной науки.
«Одно дело активность в отношении мертвой вещи, безгласного материала, который можно лепить и формировать как угодно, и другое – активность в отношении чужого живого и полноправного сознания». «Не анализ сознания в форме единого и единственного „я“, а анализ именно взаимодействий многих сознаний, – не многих людей в свете одного сознания, а именно многих равноправных и полноценных сознаний». «Не то, что происходит внутри, а то, что происходит на границе своего и чужого сознания, на пороге». «Не другой человек, остающийся предметом моего сознания, а другое полноправное сознание, стоящее рядом с моим и в отношении к которому мое собственное сознание только и может существовать».
Любое высказывание о человеке, сделанное другим, в принципе недостаточно и дефектно. Любой анализ, интерпретация и оценка являются лишь «овнешняющим заочным определением». Свободный акт самосознания, выраженный в слове, представляет для Бахтина самую достоверную, или даже единственно допустимую, форму высказывания. «Правда о человеке в чужих устах… становится унижающей и омертвляющей его ложью».
Пожалуй, никто до Бахтина не формулировал эту позицию с такой настойчивостью. Она прямо противоположна куда более распространенной в нашем веке аналитической позиции, выраженной Фрейдом: правда о человеке недоступна ему самому, потому что он независимо от своего желания становится жертвой самообмана. Узнать эту правду может только другой человек при соблюдении ряда жестких условий.
Правда о человеке, какой ее видит психоанализ, есть объективное описание его бессознательного, развенчивающее иллюзии самосознания. Бессознательное не может быть переведено в сознание внутри индивида; этот контур необходимо включает в себя другого человека. Он может приблизить сознание к бессознательному, к чему стремится психоаналитик, а может и отдалить его, что делают плохие родители. В истории психоанализа существует длинная традиция доказательств того, что самоанализ невозможен. И когда Фрейд сам анализировал свои сны, то единственным оправданием этому служило отсутствие коллеги, у которого мог бы консультироваться первый аналитик. В отношении своих последователей Фрейд был тем Другим, который замечал ошибки их самосознания и был вправе их корректировать.
Для Бахтина, наоборот, внутренняя точка зрения имеет принципиальные преимущества перед внешней: «…в человеке всегда есть что-то, что только сам он может открыть в свободном акте самосознания и слова». Человек с его самосознанием ни в коем случае не одинок: «…смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому или глазами другого». Но в мире Бахтина человек бывает только субъектом, всякие попытки рассматривать человека как объект он активно и жестко отрицает. «Подлинная жизнь личности доступна только диалогическому проникновению в нее, которому она сама ответно и свободно раскрывает себя». В таком диалоге человек «никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить формулу тождества: «А есть А».
Доведенная до своего конца, эта позиция отрицает полезность, достоверность и этическую допустимость любых извне объясняющих человека конструкций. И пожалуй, любой логики, в которой всегда А=А. Если валидны только данные самосознания, то как быть с бессознательным, которое по определению не дано самосознанию? Достоевскому, любимому герою Бахтина, многие, начиная с Фрейда, приписывали особый интерес к бессознательному. Бахтин, наоборот, не склонен придавать бессознательному какое-либо значение. Для него любое описание бессознательного – монологическое «чужое слово», а человек «всегда стремится разбить завершающую и как бы умертвляющую его оправу чужих слов о нем».
Психоаналитику здесь, естественно, приходит в голову идея сопротивления. Может даже показаться, что вся конструкция Бахтина – это поэтика сопротивления, система его оправдания и возвеличивания.
После революции Михаил Бахтин уехал из Петрограда в хорошо знакомую ему провинцию – в Невель, потом в Витебск. Особенностью его научного и человеческого дара было то, что в каждом городе, где он жил, вокруг него собирался «кружок» из нескольких духовно близких ему людей. Бахтинские кружки не имели структуры, от них не осталось уставов и протоколов заседаний. Итогом многочасовых обсуждений за чаем были только идеи, у которых, в полном соответствии с их духом, не было единоличного хозяина. «Ни одно словесное высказывание вообще не может быть отнесено за счет одного только высказавшего его: оно – продукт взаимодействия говорящих». Идеи, как он их понимал, рождаются в диалоге и в нем же умирают. Книги имеют, конечно, какое-то значение – иначе зачем бы он их писал? – но, в общем, являются чем-то вроде записок для памяти, оставляемых на пути диалога случайно или для того, чтобы отметить ими особенно крутые повороты. Такое равнодушие к авторству и приоритету – необычная вещь для ученого; многие, и в их числе самые талантливые – противоположным Бахтину примером опять-таки может быть Фрейд, – с готовностью жертвовали своими отношениями с другими для того, чтобы чувствовать себя единоличным хозяином своей (а часто и не только своей) интеллектуальной продукции. С другой стороны, получилось так, что непосредственные партнеры Бахтина по его кружкам настолько уступали ему по авторитету и таланту, что подлинного диалога с ними у Бахтина не вышло: сегодня историки практически все, что связано с этим кругом, склонны приписывать Бахтину.
Одна из немногих его работ, которая посвящена современному ему писателю – лекция о Вячеславе Иванове, и она начинается словами: «Говоря о Вячеславе Иванове, как о поэте, сразу приходится констатировать, что он одинок». То же, как ни странно, можно сказать о самом Бахтине, и этому не мешает привычно тесное окружение обоих. Бахтин пишет об Иванове, сравнивая его с поэтами-современниками: «Он менее модернизирован, в нем меньше отголосков современности, поэтому его так мало знают, так мало понимают». Именно так, наверно, и воспринимался Бахтин в Витебске 1920 года, где он наверняка виделся с Шагалом и Малевичем, да и потом в Петрограде – Ленинграде,