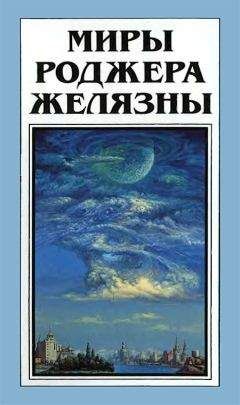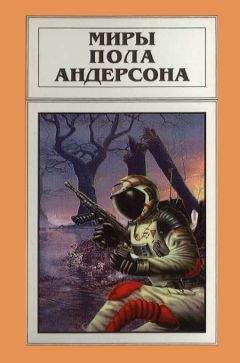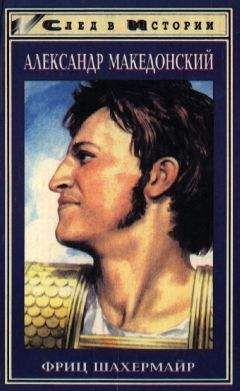«нового слога» звучали в унисон с его же прежними обвинениями советников царя в пропаганде революционных идей. В отличие от отстаивавших «новый слог», Шишков не противопоставлял «хорошую» культуру французских аристократов «вредным» идеям революционеров. Для него это были две стороны одной медали, и «старый слог» был необходимым условием сохранения в России традиционного порядка [67].
Примечательно, что под огонь критики Шишкова попали образованные высшие классы, а не простой народ, что стало впоследствии ключевым принципом русской культуры: духовная и культурная жизнь простых людей в корне отличается от жизни дворянства; именно народ является хранителем высокой морали, подлинного русского духа и языка, которые некогда были свойственны всему русскому обществу. Убеждение Шишкова, что духовный разлад российского населения можно преодолеть, перенастроив речь и всю культуру аристократии на допетровский лад, делает его, по словам одного из исследователей, «предтечей, первым идеологом русского славянофильства» [Альтшуллер 1984: 38] [68]. Это подтверждает и эпизод, описанный С. Т. Аксаковым. Несколько крепостных Шишкова, с которых он не собрал оброк, явились к нему домой и сказали, что хотят все-таки уплатить его. «Услыхав такие речи, [Шишков] пришел в неописанное восхищение или, лучше сказать, умиление не столько от честного, добросовестного поступка своих крестьян, как от того, что речи их, которые он немедленно записал, были очень похожи на язык старинных грамот». Позже, когда у Шишкова были гости, он позвал крестьян и «заставил их рассказать вновь все, сказанное ему поутру» [Аксаков 1955–1956, 2: 295] [69]. Этот эпизод показывает также, что интересы Шишкова были далеки от реалий сельской жизни.
Реакция на «Рассуждение» Шишкова была бурной. Язвительный тон трактата и умение автора нащупать слабые места у оппонентов стали, по выражению Бонамура, толчком к «литературной революции и были сопоставимы по своей ожесточенности разве что с выступлениями футуристов» [Bonamour 1965: 31]. Коллеги Шишкова по Российской академии выслушали отрывки из его работы благосклонно, но академия тогда уже не была той авторитетной силой в литературе, какой она виделась Екатерине П. К 1796 году, когда в академию пришел Шишков, она превратилась в цитадель посредственности, не имеющую связи с молодыми писателями-новаторами, за которыми было будущее русской литературы (Карамзин, к примеру, не был ее членом). В 1803 году мнение академиков значило мало, а их поддержка была слишком слабой, чтобы обеспечить Шишкову надежную защиту от критики [Сухомлинов 1874–1888,7:557; Щебальский 1870:196; Стоюнин 1877, 2: 525]. Один из академиков, С. Я. Румовский, писал в частном письме, что «желал бы, чтобы нынешние писатели удостоили сие рассуждение беспристрастного чтения», но безумной страсти к неологизмам «положить преграду столь же трудно, как реке, из берегов своих выступающей» [70]. Журналы время от времени публиковали отдельные отклики на трактат Шишкова, поддерживающие его борьбу с нелепыми неологизмами, но никто из влиятельных фигур не выступил в печати с одобрением его начинания. Однако министр просвещения граф П. В. Завадовский, ветеран Екатерининской эпохи, показал экземпляр «Рассуждения» Александру I, и тот послал Шишкову кольцо в знак монаршего признания его заслуг [Сухомлинов 1874–1888,7:188–189,513-514, 556; Булич 1902–1905: 140–141] [71].
Тот факт, что «Рассуждение» было принято довольно прохладно (сам Шишков называл свой труд «всего лишь малой каплей воды к потушению пожара» [Шишков 1870, 2: 5]), очевидно, усилил его пессимистическое настроение. Адмирал боялся, что зло, которое он обличал, пустило в России слишком глубокие корни, и жаловался на то, что очень немногие хотят, подобно ему, высказывать непопулярные мнения [72], особенно если высказываемые идеи неоднозначны и их трудно воплотить в жизнь. Разница между Россией и Западом и между крестьянами и дворянами, о которой он писал, относилась в основном к сфере морали. Разум, приняв форму философии французского Просвещения, нанес человечеству такой урон, какой никогда не смогли бы нанести человеческая глупость или наивность. Шишков размышлял над дилеммой: если люди добрые и мирные, как голуби, оказываются так же тупы, то те, кому присуща мудрость змеи, должны обладать и ее порочным характером. Предлагаемое Шишковым решение выдает его беспомощность перед этой проблемой:
Мне кажется, человек должен так располагать жизнь свою, чтоб, побывав один только час в змеиной школе, на все остальное время суток тотчас бежал в голубиную школу и спешил скорее, чтоб господа самолюбие, корыстолюбие, славолюбие и прочие их товарищи не успели сделаться крайними его приятелями [73].
Немногие отнеслись к «Рассуждению» Шишкова так же снисходительно, как его друзья по Российской академии. Особенно язвительны были писатели молодого поколения. «Проза Шишкова? – говорил Вяземский. – Как будто это проза, как будто у него есть слог?» [Вяземский 1878–1896, 9: 145]. Ф. Ф. Вигель, поклонник Карамзина, отозвался о Шишкове как о «плохом писателе», пользующемся поддержкой влиятельных особ, с которыми он сошелся за карточным столом и которые соглашались с его лингвистическими идеями потому, что ничего в них не понимали [Вигель 1928, 1: 199–200]. К. Н. Батюшков считал, что «Лучшая сатира на Шишкова <…> его собственные стихи, которые ниже всего посредственного» [Батюшков 1989, 2: 164]. Друзья Аксакова по Казанскому университету читали трактат Шишкова «вслух напролет всю ночь», и он «привел молодежь в бешенство» [Аксаков 1955–1956, 2: 267]. Они излили свой гнев на молодого Аксакова, подозревая его (совершенно справедливо) в согласии с точкой зрения адмирала. Сам же Шишков даже с какой-то извращенной гордостью воспринимал враждебность тех, чье мнение он презирал [74].
Однако и среди молодежи находились читатели, которым «Рассуждение» Шишкова понравилось. Так, Аксаков восторженно воспринял высказанные в нем националистические и анти-карамзинские взгляды, которые всегда привлекали молодого человека, хотя он еще не умел облечь свою позицию в слова [Аксаков 1955–1956, 2: 266–268]. Другим примером может служить Н. И. Тургенев. Основываясь на опубликованном неблагоприятном отзыве о трактате Шишкова [75], он заключил в 1808 году, что, по-видимому, «в сей книге есть очень много очень глупого» [Тарасов 1911–1921,1: 97–98] [76]. Однако, прочитав напечатанное в «Вестнике Европы» письмо Шишкова, обличавшее франкофилию, Тургенев нашел, что «письмо в своем роде превосходное и исполненное справедливости» [Тарасов 1911–1921, 1: 97–98]. Год спустя, учась в Германии, он, по всей вероятности, прочитал трактат Шишкова и нашел, что «’’Рассуждение”, право, очень хорошо» [Тарасов 1911–1921, 1: 361] [77]. К концу 1810 года он, похоже, перечитал его еще раз, соглашаясь с основной идеей произведения, касающейся взаимоотношений церковнославянского и французского языков, но не одобряя резких (пусть даже косвенных) выпадов против Карамзина. Тургенев не мог понять, почему критики обрушиваются на Шишкова с такой одержимостью. Находясь в далеком Гёттингене в тот момент, когда Россия переживала всю