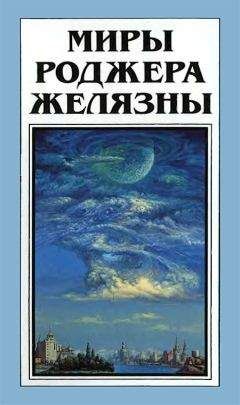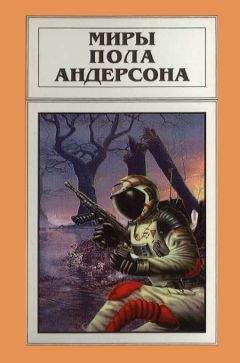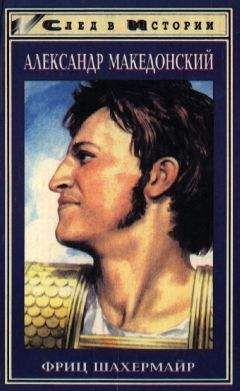горечь поражения от Наполеона, он восхищался стойким патриотизмом адмирала: «Только и удовольствия, как ложусь спать с трубкою и Шишковым!» [Тарасов 1911–1921, 1: 285] [78].
Один из первых и наиболее агрессивных публичных отзывов на трактат Шишкова был дан П. И. Макаровым, издателем журнала «Московский Меркурий». Карамзин уклонился от участия в дебатах, Макаров же неизменно превозносил всё, что перенимала Россия у Европы, и целенаправленно принижал российское прошлое и традиции. Он даже опубликовал с целью провокации заметку на непривычную для него тему европейской моды, сознавая, что следование моде считалось в России одним из грехов, свойственных европеизации. Краеугольным камнем издательской политики Макарова был тезис, что прогресс и новшества (в том числе и в моде) необходимы.
Вера Макарова в прогресс определила непримиримый тон его рецензии на книгу Шишкова. Он оспаривал мнение адмирала, что установившаяся литературная традиция должна служить вечным критерием совершенства, возражая, что «язык следует всегда за науками, за художествами, за просвещением, за нравами, за обычаями» [79]. Убеждение, что язык – отражение меняющейся жизни общества, было основополагающим принципом сторонников «нового слога». Всему, что превозносил Шишков, они давали прямо противоположную оценку. Так, он утверждал, что язык – живое явление, которое следует оберегать от заражения вредными нововведениями, они же усматривали в этом попытку умертвить язык, заморозив его и прекратив его развитие на какой-то произвольно выбранной стадии. Шишков видел в церковнославянском языке средство сохранить русскую идентичность. Если бы русские говорили как их предки, полагал он, то и думали бы так же. Макаров непримиримо выступал против стремления Шишкова утвердить вечную неизменность жизни: «Мы теперь совсем не тот народ, который составляли наши предки; следственно хотим сочинять фразы и производить слова по своим понятиям, нынешним, умствуя как французы, как немцы, как все нынешние просвещенные народы» [80]. Шишков признавал родство русской церкви с греческим православием, которое в данный исторический момент не играло в России почти никакой роли; ему нравились немцы, а французская культура казалась ему абсолютно чуждой, и он боялся ее влияния. Макарову же, разумеется, она представлялась как раз примером, которому Россия должна следовать: «Мы не хотим возвратиться к обычаям праотческим, ибо находим, что вопреки напрасным жалобам строгих людей нравы становятся ежедневно лучше!» [81]Карамзинисты горячо приветствовали рецензию Макарова. Страсти, которые всколыхнул трактат Шишкова, разгорались.
Шишков с обидой воспринял Макаровский сарказм и счел его критику необоснованной. Идея Макарова, что язык русской литературы выиграет оттого, что писатели будут изучать французский, вызвала презрительную насмешку адмирала. «Какой француз учился у немца писать по-французски?» – вопрошал он в ответной заметке [Шишков 1818–1834, 2: 422]. Заявление, что традиционным недостатком России является малое количество светской литературы и что нравственность в последнее время улучшается, встретило резкий отпор со стороны Шишкова. За последние пятьдесят лет, писал он, произошло падение нравов, которое не могут компенсировать никакие сдвиги в чисто литературной области.
Мы оставались еще, до времен Ломоносова и современников его, при прежних наших духовных песнях, при священных книгах, при размышлениях о величестве Божием, при умствованиях о христианских должностях и о вере, научающей человека кроткому и мирному житию, а не тем развратным нравам, которым новейшие философы обучили род человеческий и которых пагубные плоды, после толикого пролития крови, и поныне еще во Франции гнездятся [Шишков 1818–1834, 2: 423] [82].
Это было серьезное обвинение, связывающее в один вредоносный узел Просвещение, Французскую революцию и русских писателей. Шишков вновь подчеркнул важность различения письменного и устного языков. Он убедился, что это различие существует также в английском, итальянском и немецком языках, и даже у Вольтера нашел аргументы против «нового слога». Предупреждая напрашивавшееся подозрение, что он является узколобым ксенофобом, Шишков изобразил себя человеком, который уважает иноземную культуру, но придерживается мнения, что Россия должна идти своим путем, не опускаясь до бездарного подражания Франции.
Предкам современных россиян, продолжал он, были присущи многие достоинства: набожность, благонадежность, патриотизм, гостеприимство, доброта – и их потомки, включая Макарова, не имеют причин насмехаться над ними. «Просвещенному» человеку вряд ли подобает презирать своих предков. «Просвещение не в том состоит, чтоб напудренный сын смеялся над отцом своим ненапудренным» [Шишков 1818–1834,2:459]. (Это замечание заставляет нас вспомнить обстановку во Франции в конце XVIII века. Напудренные парики, ассоциировавшиеся в сознании русских с иностранцами и их привычками, служили символом аристократического упадничества для якобинцев, но если последние связывали их со старым образом жизни, то Шишков – с новым.) Он также постарался более ясно выразить преклонение перед крестьянской массой, лежавшее в основе его теорий, но при этом обошел молчанием обстоятельства, говорящие не в пользу старого режима, а сосредоточился вместо этого на общих вопросах культуры и морали:
Мы не для того обрили бороды, чтоб презирать тех, которые ходили прежде или ходят еще и ныне с бородами; не для того надели короткое немецкое платье, дабы гнушаться теми, у которых долгие зипуны. Мы выучились танцевать менуэты, но за что же насмехаться нам над сельскою пляскою бодрых и веселых юношей, питающих нас своими трудами? Они так точно пляшут, как бывало плясывали наши деды и бабки. <…> Просвещение велит избегать пороков, как старинных, так и новых, но просвещение не велит едучи в карете гнушаться телегою. Напротив, оно, соглашаясь с естеством, рождает в душах наших чувство любви даже и к бездушным вещам тех мест, где родились предки наши и мы сами [Шишков 1818–1834, 2: 459].
Шишков гневно обвинял в вопиющей самонадеянности тех, кто позволял себе отбрасывать старые традиции и нравственные ценности, дорогие многим людям, ничем не доказав свое право предъявлять какие-либо претензии. Они объявляли русскую литературную традицию устаревшей, даже не ознакомившись с ней. Не зная толком русского языка, они считали, что он уступает французскому. Не имея представления об исконной русской культуре, они отмахивались от нее как от пережитка прошлого. И что было для русских людей самым оскорбительным, они даже не сознавали, насколько смехотворны их жалкие потуги подражать французам, которые просто-напросто цинично использовали их. Просвещение, по мысли Шишкова, означало не столько культурное, сколько моральное совершенствование. Тот, кто презирает своих предков, по определению не может считаться «просвещенным» [Шишков 1818–1834, 2: 459, passim].
Все эти разоблачения имели и политическую составляющую. Александр I и его «молодые друзья» были виновны в тех же грехах, что и карамзинисты, тогда как Екатерина II, к примеру, относилась к русской национальной традиции с искренним уважением. Поэтому недоверие царя к адмиралу имело под собой основания и было взаимным. В спорах о