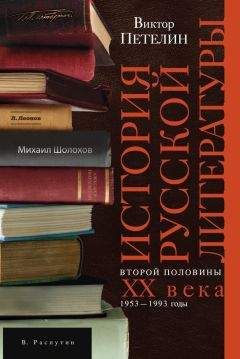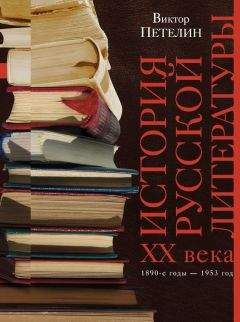Олега Волкова тянет к тем, кто добр, совестлив, бескорыстен, терпим к иным обычаям, к иным мыслям и мнениям. «Ярцевские далёкие дни» – так называется рассказ о далёких днях, проведённых в глухой сибирской тайге. В подавленном состоянии (на рассказчика обрушились несчастья, выбившие его из привычной колеи) он мог бы озлобиться на весь мир, на людей. А О. Волков создал в этом рассказе замечательный образ хирурга Михаила Васильевича Румянцева, учёного-ботаника Владимира Берга и его любовницы Зульфии Ибрагимовой, которая не решилась поехать вместе со своим любимым в Ленинград: там заболела мать учёного. Он уехал, а она осталась и потом всю жизнь была несчастлива, а он умер в одиночестве. И сколько глубоких раздумий возникает от размышлений об этих судьбах. Писатель не раскрывает душевных глубин своих далёких друзей, но ясно одно: он горько скорбит, что два таких хороших человека не получили от жизни того, что она могла бы им дать.
Превосходен и рассказ «Случай на промысле», написанный тоже как воспоминание о давно прошедших молодых годах, когда автор только начинал свою жизнь в Сибири, познавая её трудности и сложности.
Олега Волкова восхищает готовность человека жертвовать своим временем и покоем ради других людей. Потому-то он так поддерживает легенду ярцевцев о том, что хирург Румянцев был чуть ли не гениальным хирургом, творившим чудеса. А ведь дело-то не в искусстве хирурга, а действительно в безотказном и самоотверженном служении людям, которые полюбили его за это. Но есть и другие люди, которые думают только о себе, только об удовлетворении своих гнусных страстей. Вот таких Олег Волков яростно ненавидит, хоть и не вводит их самостоятельными фигурами в своё повествование. Особенно яростную войну Олег Волков ведёт против тех, кто своим беспробудным пьянством калечит жизнь других людей. Сколько раз на жизненных дорогах ему приходилось видеть, как пьяница-отец терзает детей своим бесшабашным поведением! Отсюда бедность в доме, неуверенность в будущем, боязнь матерей, что дети пойдут по стопам отца. Гневные слова О. Волков высказал в рассказе «Огненная вода».
С не меньшим интересом читаешь «Очерки Подмосковья», «Деревенские судьбы», «Московские очерки», читаешь их как «записки охотника»: Волков приезжает из года в год в одно и то же место в Волоколамском районе Московской области, чтобы отдохнуть от тяжких писательских трудов – поохотиться. Но какой там отдых писателю, некогда жившему на селе и хорошо знавшему труд хлебороба, то и дело натыкается он на бесхозяйственность, на беспорядки, на нетребовательность со стороны руководителей. И всякий раз пытается выяснить, почему так получается. Почему на приусадебных участках картошечка стоит окученная, выполотая, любо посмотреть, а на колхозном поле что-то чудовищно мрачное виделось ему. Говорят, что пропала любовь к земле. Нет, не пропала, на своём клочке земли люди стараются. Не будет картошки, дети будут голодать. А вот на совхозной земле работают совсем по-другому. И никто ничего с этим поделать не может. А сколько земли пропадает из-за отсутствия дорог, сколько людей застревает на этих раскисших дорогах, которые становятся всё шире и шире, а земли под полезными культурами всё меньше и меньше. Какой чудовищный урон несёт наша земля из-за бесхозяйственного отношения к дорогам.
Нет порядка в лесу, нет егерей, а если есть, то оклады уж очень низкие. Горько сжимается сердце художника при виде заброшенных деревень. «При виде этих поглощаемых травами, навсегда исчезающих следов жизни длинной чреды поколений крестьян меня охватывает чувство обиды за их безвестность: не стало многовековой деревни и напрочь отсеклась память о тысячах русских людей, строивших мою землю. И не найти о них никаких справок, ни самых обрывистых сведений ни в архивах, ни в родословных. Поле и лес поглотили скромные мужицкие усадьбы, время развеяло имена хозяев…» – размышляет много испытавший писатель. Пожалуй, эти очерки напоминают не только «Записки охотника» И. Тургенева, но и очерки Глеба Успенского, столько в них точных расчётов и выкладок: автор подробно, с цифрами в руках, анализирует хозяйственную деятельность некоторых колхозов и совхозов. Эти очерки О. Волкова можно назвать и «Нравы Теряевой слободы». Жестокая и беспощадная правда раскрывается здесь, всему этому веришь, потому что и сам не раз сталкивался с подобными людьми и нравами. Дядя Гриша, с которым подолгу разговаривал писатель, размышляя о бедах крестьянина, нарисовал нелёгкую и даже жёсткую картину: «Оно конечно, вокруг того, как это мужик прежде был хозяином своей земли, а ныне у неё в работниках, можно невесть чего хитрого измыслить и нагородить. Тут большая разница знаешь в чём получилась? Техника мчит да гонит, за ней не поспеваешь. Прежде мужик приступал к делу не торопясь: прикинет, примерит, на солнышко взглянет, а там и начнёт… А нынче всё давай и давай, бегом да вскачь…»
Олег Волков хорошо знал Москву, любил бродить по её старым переулкам и улицам. Много написал статей и очерков о Москве и старых русских городах, о русских архитекторах, о скульпторах, о художниках. О бережении русской старины, о красоте архитектурных памятников, о лесе и земле, о неразрывной связи времён и поколений, о бережливом отношении друг к другу и о многом другом высоком и значительном в сердце русского человека писал Олег Волков в своих книгах. Но главная цель оставалась невысказанной – «Погружение во тьму» повсюду получала отказы. Небольшие отрывки проскальзывали в печать, но глубокая боль от невысказанного печалила душу. Лишь однажды душа оттаяла в ожидании счастливого конца: «Помню день, когда, окрылённый публикацией «Ивана Денисовича», положил на стол Твардовскому свою повесть «Под конём», – вспоминал Олег Волков.
– Ну вот, – сказал, прочтя рукопись, Александр Трифонович, – закончу публикацию Солженицына, напечатаю и вас. Только не сразу, а то обвинят в направлении…
Но оттепель прекратилась раньше, чем ожидал редактор «Нового мира». Он, однако, оставался оптимистом и, возвращая рукопись, обнадёжил меня:
– Видите, я написал на папке «до востребования»: мы к вашей повести вернёмся».
После этого я её не единожды переделывал, изымая оттуда один острый эпизод за другим, менял название, пока не удостоверился окончательно, что никакие лагерные воспоминания напечатаны не будут, если не говорить о верноподданной стряпне Дьяковых и Алдан-Семёновых и прочих ортодоксов. Кремлёвские архонты дали команду считать выдумками и россказнями толки о лагерях, раскулачивании, бессудных казнях, воздвигнутых на костях «стройки коммунизма», – упоминание о них приравнивалось к клевете и враждебной пропаганде» (Волков О. Погружение во тьму. Париж, 1987. С. 440).
Олег Волков был освобождён из мест заключения в апреле 1955 года: «За плечами почти двадцать восемь лет тюрьмы, лагерей, ссылок, отсиженных ни за что. У меня в архиве пять уже ветхих бумажонок со штампами и выцветшими печатями. Я их собрал ценой двухлетних хлопот в Москве. Это по-разному сформулированные справки трибуналов, судов и «особых совещаний» о прекращении дела по обвинению имярек в том-то, по статье такой-то, ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Я собирал их не ради коллекционирования, а для представления в жилищное управление Мосисполкома: чтобы получить квартиру и быть прописанным, надо было привести доказательства, что длительное отсутствие из Москвы было вызвано не вольным бродяжничеством по свету, а занявшими весь период репрессиями» (Там же. С. 435—436).
В самом начале повествования О. Волков описывает мрачное место заключения в Архангельской тюрьме, в которой просидел около года. И молодой человек в двадцать восемь лет, перед которым открывалась блестящая карьера журналиста и переводчика, вдруг понимает, что он оказался в «пылающей бездне», понимает, как «неодолимы силы затопившего мир зла»; «калёным железом выжигаются из обихода понятия любви, сострадания, милосердия – а небеса не разверзлись…» (Там же. С. 8). Вроде бы прав О. Волков, почти всё так и было, но небеса не разверзлись потому, что в русской литературе сохранились и понятия любви, и сострадание, и милосердие, но за живые голоса в литературе нужно было биться и страдать. И такая литература была.
О. Волков рассказывает о своих родителях, о мыслях, которые возникали с началом Февральских событий 1917 года, о том, как приходил к отцу банкир Шклявер, главный акционер и распорядитель Русско-английского банка, и уговаривал отца перевести деньги за границу: «Отрешитесь от иллюзий, дорогой Василий Александрович, – убеждал он его. – Россию я люблю не меньше вашего, хотя вы родились в древнерусском городе, а я в местечке Могилёвской губернии! Она дала мне положение, деньги, дружбу благороднейших русских людей – всё, что у меня есть… Но, мой милый идеалист, той России, какую вы надеетесь увидеть, не будет и через триста лет: народ не способен управлять своей судьбой. Он выучен слушаться только тех, кто присвоит себе право ею распоряжаться, не спрашивая о согласии, кто обходится с ним круто…» (Там же. С. 33—34). Шклявер уже тогда назвал германский Генеральный штаб главным финансистом всех российских преобразований, начиная с Февральских событий.