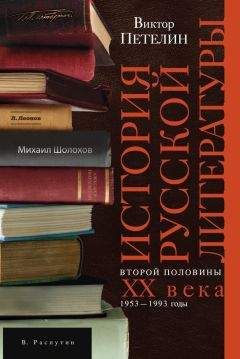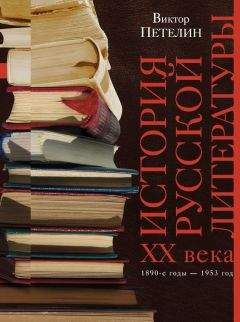С первых же страниц романа Скутаревский предстаёт в расцвете своего положения в обществе. В его памяти звенели «благоговенные клятвы юности о свободе, человечности и культуре», на ночь он целовал портрет Эдисона. Он так много сделал в энергетике, что его кандидатуру выдвигали на Нобелевскую премию. После революции его вызывали в Кремль и советовались с ним о возможностях его сотрудничества с новой властью. На английском языке Скутаревский беседует с американским журналистом о работе крупнейшей районной станции. Оба видят много недостатков на станции, однако американец говорит: «Вы идёте гигантскими шагами. Пока у вас только Кентукки, но лет через пятьдесят у вас будет уже свой Бостон». Он был когда-то инженером, а во время безработицы стал журналистом. Скутаревский молчаливо согласился с ним, но душа его «чадила и клокотала», «работу эту проектировал его сын, Арсений Сергеевич Скутаревский», что «заставляло его в этом разговоре конфузиться, раздваиваться и молчать». Но тут же распространился слух, что «суждения экспертизы крайне благоприятны». Скутаревский недоволен, а Черимов радуется тому, что было сделано на станции. Молодому учёному только тридцать, он больше верит графикам, которые «отличались отменным благополучием»: «Минутами, теряя надежду на собственную прозорливость, он уже протягивал руку разбудить учителя и, жертвуя всем, спросить в упор о значении обмолвки, и всякий раз не решался» (Леонов Л.М. Собр. соч. Т. 3. С. 13—16). На этих противоречиях знаменитого профессора и молодого учёного и строится композиция всего романа, от неразрешимых противоречий – и все недостатки развернувшегося строительства заводов, фабрик, всего-всего, в Советском Союзе. И Л. Леонов чуть ли не первым заметил это противоречие, которое сразу после победоносной войны дало о себе знать.
Сергей Андреич Скутаревский вошёл в свою квартиру и сразу услышал, что у жены кто-то разговаривает, он сразу «догадался, что это пресловутый Осип Штруф», который «приволок на продажу какой-то неописуемый шедевр» (Там же. С. 19). Скутаревский, вслушиваясь в разговор, подивился – «какую мошенническую фантазию следовало иметь, чтоб у дурацкого сосуда из-под оливкового масла отыскать плечи и ноги». Тут же вошла жена, которая словами Штруфа объяснила мужу, какую уникальную вазу они могут купить, Осип Бениславич может её продать Петрыгиным, а там, в столовой, «где одиноко выкашливался Штруф, имелись незапертые ящики, а плачевная репутация Осипа Бениславича требовала особого присмотра и осторожности» (Там же. С. 21). Доводы жены не подействовали на Скутаревского, он был мрачен, и она почувствовала беду: «Вокруг рушились инженерские благополучия, ломались карьеры, гибли репутации, распадались семьи…» Скутаревский вдруг увидел, что вместо привычного фагота «висел портрет длинноносого начальственного человека в берете и с выпяченной губой… было ясно, что это сам Штруф и есть, лишь в ненатуральном виде». Скутаревскому Анна говорит, что это портрет Франциска I, а он стоит на своём. Тут вмешался в разговор Осип Бениславович, он не отвергал своего сходства с французским королём, но, спохватившись, тут же отрекся: «Бумаги утеряны, а карточки хлебной за такое родство лишат». В полной зависимости от мнения Скутаревского жена его выставила Штруфа за дверь, а он думал о том, «что недалёк день, когда всё откроется и старинные клиенты, тыча всякими словами, погонят его взашей»… (Там же. С. 25).
В романе Леонида Леонова есть любопытный эпизод, который раскрывает суть произведения. Скутаревский – это крупный учёный старой формации, директор института 20-х годов, который не приемлет новые методы руководства. А эти методы проникают повсюду: «с слихим доносным удальством миражили в газетах у высокого начальства»; «Уж они пролетарскую физику выдумали и под этим соусом Ньютона прорабатывают. Галилея на прошлой неделе так разносили, что и на суде ватиканском так его, поди, не чистили!» – формулирует свои наблюдения один из персонажей романа, кстати не из самых положительных. И вот в эти дни в институт назначают Николая Черимова, бывшего партизана, комиссара, заместителем Скутаревского. Вскоре ему представилась возможность выступить перед коллективом и определить новые задачи, стоящие перед учёными. «Черимов имел достаточно времени и материала для изучения среды, которую ему поручено было перепахивать» (курсив мой. – В. П.). Перед Черимовым выступил один из старых учёных, стремившихся честно приспособиться к законам времени, но его представление о строящемся новом мире было наивным, он «прихрамывал на каждом политическом слове, слишком непривычном для области, в которой он работал». «Горькое и целительное лекарство, которое применила в отношении себя Россия, всё ещё отвергается политической медициной Европы» – эту фразу Леонов вкладывает в уста учёного Ханшина, так наивно пытавшегося приспособиться к новой обстановке.
Все ждали выступления Черимова, с приходом которого в институт связывали начало его разгрома и дисквалификации, начало падения Скутаревского. Но ничего подобного не произошло. Он завоевал доверие собравшихся, его выступление могло бы оказаться триумфальным, и собрание подходило к концу, когда произошёл эпизод, который один мог рассеять весь черимовский успех. «Среди поданных записок оказалась одна, без подписи, и Черимов, торопившийся закончить, с разбегу прочёл её вслух. Анонимный автор просил напомнить ему, где именно у Бебеля сказано, что для построения социализма прежде всего нужно найти страну, которой не жалко. Было так, точно выстрелили вдруг в Черимова из аллегорического букета, который подносили внезапные почитатели его большевистских талантов. С осунувшимся от неожиданности лицом… Черимов предложил анониму назвать себя» (курсив мой. – В. П.). Но конечно, никто не сознался. Скутаревский, злой и сконфуженный, сказал, что этот эпизод «позорит всех нас», а Черимов, также осудив анонима за безграмотность, сказал, что «фраза эта… приведена у покойного врага нашего Бисмарка». Скутаревский предложил найти по почерку автора анонимки, но Черимов, сохранив на всякий случай записку, подытожил этот эпизод: «Просто злоба обывателя никогда не соответствует их грамотности».
Эпизод разработан глубоко, Леонову не так уж важно, кто сказал, что строить социализм нужно в той стране, какой не жалко. Главное в том, что эта мысль возникла много лет тому назад и зажгла сердца сотен и тысяч марксистов.
Этот эпизод романа заставляет вспомнить ту обстановку, которая возникла после Октябрьской революции и укрепилась в 20-х годах.
К. Маркс и Ф. Энгельс тщательно изучали положение России в современном мире, изучали историю, экономику, национальный характер. Маркс изучал русский язык, встречался с русскими революционерами, вступал в противоборство с Бакуниным. Известны слова Ф. Энгельса о том, что он не знает никого, кто бы так хорошо, как Маркс, знал Россию, её внутреннее и внешнее положение. К сожалению, мы слишком привыкли к столь одностороннему взгляду на марксизм.
Не буду приводить высказывания основоположников марксизма о ненависти к России и к русским, ко всему славянскому миру, относивших всех славян, кроме поляков, к реакционным нациям, подлежащим уничтожению. Бакунин в то время призывал к справедливости, человечности, свободе, равенству, братству, независимости всех славянских народов. «Мы не намерены делать этого, – решительно возражает Энгельс на призывы Бакунина. – На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была и продолжает ещё быть у немцев их первой революционной страстью; со времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам, и только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем мы совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии…»
Среди многочисленных высказываний процитирую лишь известного писателя и учёного Н. Ульянова: «Приведённый букет высказываний интересен как психологический документ, – писал он в статье «Замолчанный Маркс». – Россия должна провалиться в Тартар либо быть раздробленной на множество осколков путём самоопределения её национальностей. Против неё надо поднять европейскую войну либо, если это не выйдет, отгородить её от Европы независимым польским государством. Эта политграмота стала важнейшим пунктом марксистского катехизиса, аттестатом на зрелость. Когда в 80—90-х годах начали возникать в различных странах марксистские партии по образцу германской социал-демократической партии, они получали помазание в Берлине не раньше, чем давали доказательства своей русофобии. Прошли через это и русские марксисты. Уже народовольцы считали нужным в целях снискания популярности и симпатии на Западе «знакомить Европу со всем пагубным значением русского абсолютизма для самой европейской цивилизации». Лицам, проживающим за границей, предписывалось выступать в этом духе на митингах, общественных собраниях, читать лекции о России и т. п. А потом в программах наших крупнейших партий, эсдеков и эсеров, появился пункт о необходимости свержения самодержавия в интересах международной революции… За несколько последних десятилетий корабль марксизма подвергся жестокому обстрелу и зияет пробоинами; самые заветные его скрижали ставятся одна за другой на полку с сочинениями утопистов. Позорная же шовинистическая страница, о которой идёт речь в этой статье, всё ещё остаётся неведомой подавляющему числу последователей и противников Маркса…» (Москва. 1996. № 10).