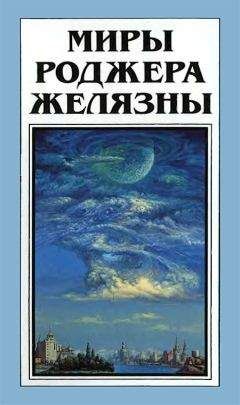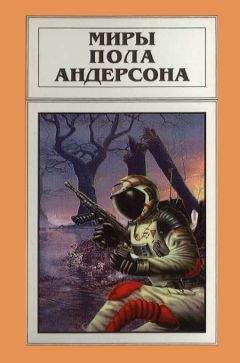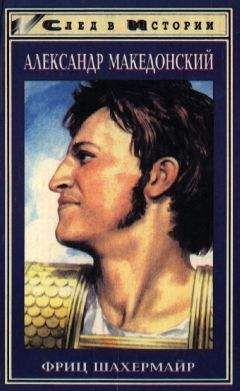свое время приговоривший Иисуса к смерти) и теперь составлял дьявольский план объединения всех евреев с целью покончить с христианством, а его самого объявить новым мессией. Поэтому все правоверные христиане должны храбро сражаться с ним, подчиняться законной власти и не поддаваться дьявольским искушениям врага. В отдельном воззвании Синод расписал кошмары, выпавшие на долю «ослепленного мечтою вольности народа французского», когда «за ужасами безначалия следовали ужасы угнетения» [Шильдер 1897, 2: 357]. Эти призывы, судя по всему, были эффективны и настроили народ против Наполеона, однако вскоре российские власти пожалели об этом, потому что, по иронии судьбы, им пришлось заключить договор с «Антихристом» [99].
К весне 1807 года русские войска увязли на полях сражений в Польше и Восточной Пруссии, и, как докладывал де Местр своему правительству, популярность Александра в столице продолжала падать. Жихарев наблюдал (теперь уже в Петербурге), как настроения публики сменяются между агрессивностью, страхом, разочарованием и непреодолимым любопытством. 7 апреля 1807 года он был свидетелем разговора нескольких сановников: «Один из них осуждал действия главнокомандующего армиею, другой назначал своих генералов, а третий утверждал, что он для окончания войны “просто взял бы Париж и Бонапарте повесил бы как разбойника” и проч, и проч.» [Жихарев 1989, 2: 233]. 25 апреля он отметил, что «в обществах заметно какое-то беспокойство» [Жихарев 1989, 2: 262] и что публика так же, как после Аустерлица, не устает обвинять немецких и британских союзников в отсутствии хороших вестей с театра военных действий. Запись от 16 мая гласит: «Дай бог слышать добрые вести! Между тем известия из армии как-то замолкли: гвардейцы мало пишут, официальных сведений вовсе нет и любопытство публики час от часу возрастает» [Жихарев 1989, 2: 299]. Даже после разгрома при Фридланде 2/14 июня 1807 года и начала мирных переговоров в Тильзите правительство не удосужилось объяснить публике толком, что происходит на фронте. Находившимся в столице иностранным дипломатам приходилось довольствоваться слухами. Так, Стедингк сообщает в Швецию 18 июня, что не знает подробностей битвы при Фридланде, а сведения о перемирии, вроде бы заключенном между двумя императорами, противоречивы. Мир действительно был подписан 25 июня, но даже 26 июля дипломат не мог сказать о нем ничего определенного [Stedingk 1844–1847, 2: 321–322, 329] [100]. 4 июля Александр вернулся в столицу, но лишь 9 августа официальным манифестом известил своих подданных об окончании войны. До этого момента об изменении международной ситуации можно было только догадываться по некоторым неуклюжим мерам, предпринимавшимся правительством; так, 18 июля было запрещено зачитывать в церквях прокламацию Синода, осуждающую Наполеона, и произносить соответствующие проповеди. Вчерашний лжемессия превратился в ценного союзника [Шильдер 1897, 2: 207].
Первая реакция на Тильзитский мир была довольно благосклонной. Орудийный салют в столице 3 июля в честь этого события, прибытие монарха на следующий день, служба в Казанском соборе 5 июля с последующей праздничной иллюминацией – все это радостно принималось публикой, желавшей мира и не знавшей об условиях его заключения. Но вскоре ее настроение изменилось. 15 июля Кэтрин Уилмот пишет из Петербурга: «…все считают, что вчерашняя иллюминация по поводу заключения мира отражала настроение публики, и если это действительно так, то это не предвещает ничего особенно хорошего, ибо зрелище было крайне убогим… Все бранят англичан за то, что они оказались такими нерасторопными союзниками» [Wilmot 1934: 250–251]. Ее сестра Марта наблюдала аналогичную картину в Москве [101].
Одобрение Тильзитского мира быстро сменилось всеобщим унынием. Как писал впоследствии Шишков, Россия и другие европейские страны были вынуждены признать, что Наполеон «сделался некоторым образом повелителем и господином над всеми» [Шишков 1870, 1: 95]. Стали подозревать – как отметили и сестры Уилмот, – что, пока Россия честно сражалась с Наполеоном, другие страны (и в первую очередь Британия) загребали жар чужими руками, а германские союзники и российские генералы немецкого происхождения предали ее [102]. Даже старые друзья Александра по Негласному комитету тревожились по поводу его профранцузской политики, а в офицерском корпусе после поражений 1805 и 1807 годов царили реваншистские настроения. Воззвания Синода внушили простому народу, что он воюет с Антихристом, и потому он был уверен, что «мир заключей при содействии нечистой силы» [Дубровин 1898–1903, 1: 493] [103]. В конце-то концов, вспоминал Вяземский, «Наполеон <…> был не что иное, как воплощение, олицетворение и оцарствование революционного начала. Он был равно страшен и царям и народам. <…> Все были под страхом землетрясения или извержения огнедышащей горы. Никто не мог ни действовать, ни дышать свободно» [104]. Подобная напряженная атмосфера отнюдь не ограничивалась столичным аристократическим кругом. Александра предупреждали, что Петербург порождает слухи, которые быстро доходят до Москвы, Москва же каждую зиму принимает множество провинциальных дворянских семейств со слугами, и в результате, как писал М. Л. Магницкий, «гибельная мода порицать правительство переходит в провинции <…> и благотворную доверенность к правительству, в важных положениях его столь драгоценную, в основании ее и повсеместно колеблет» [105].
Стремясь укрепить доверие к правительству, Александр менял одного за другим министров иностранных дел. В 1806 году он сместил с этого поста крайне непопулярного Чарторыйского и поставил на его место А. Я. Будберга, ливонского генерала, не имевшего достаточного опыта в международных делах, а в 1808 году заменил его графом Н. П. Румянцевым, противником войны, открыто выступавшим за союз с Францией. Способствуя заключению Тильзитского мира, Румянцев завоевал расположение Наполеона и потерял популярность в России. Но серьезной роли в политике он не играл, так как, судя по всему, царь готовился к новой войне с Францией за спиной Румянцева [Grimsted 1969: 151–182; Stahlin 1929–1939, 3: 131].
К моменту встречи Александра с Наполеоном в Эрфурте осенью 1808 года перспективы союза с Францией были уже не такими блестящими (хотя перед публикой разыгрывалось полное согласие). Российские остряки называли встречу «визитом в Эрфуртскую Орду», намекая на унизительные поездки русских князей в Золотую Орду для уплаты дани татаро-монгольским хозяевам. Эта поездка Александра и реакция на нее – характерный пример того неловкого положения, в котором царь пребывал с 1807 по 1812 год, лавируя между коварным французским союзником и общественным мнением, чью враждебность к Франции он разделял в гораздо большей степени, чем мог позволить себе признать открыто. Он вел двойную игру: публично выступал за укрепление союза с Францией, а втайне готовился к войне с ней. С политической точки зрения эта стратегия была проигрышной на обоих фронтах: Париж не доверял голословным заверениям в дружбе, которым противоречили конкретные действия (вроде слабой поддержки французской кампании 1809 года против Австрии