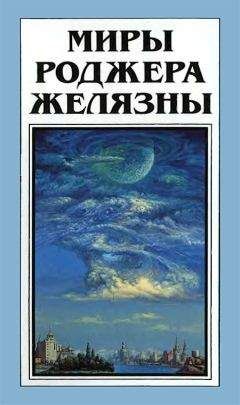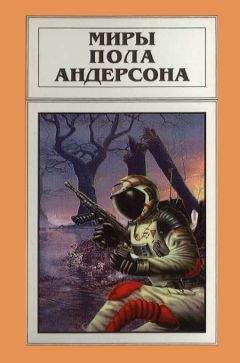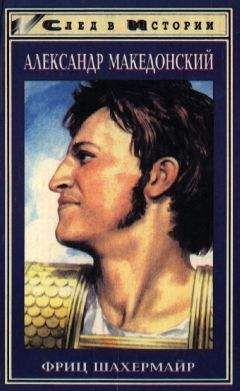Реформа Сената нашла очень слабую поддержку в обществе, поскольку в стране, где связи между властными органами или наделенными властью лицами зависели не от их положения в общей государственной структуре, а от личных отношений и высший класс был гораздо меньше структурно оформлен, чем на Западе, покровительство императора выглядело куда более надежной опорой для интересов дворянства, чем олигархическое правление аристократической элиты. В самодержавной России не было социальной базы для возникновения движения в защиту «прав» дворянства, подобного провинциальным «парламентам», существовавшим во Франции в последние десятилетия перед революцией. Аналогичным образом дело обстояло и с отношением дворян к крепостному праву. Оно служило основой их привилегированного положения, и потому они никак не могли выступать ни за его отмену, ни за реформирование, поскольку, подобно властным структурам, крепостничество строилось на личных отношениях и не подчинялось правовым нормам. Любая реформа могла усложнить официальный статус крепостного и тем самым подорвать роль дворянства как посредника между народом и государством. Эта уникальная функция делала наличие дворянского класса непременным условием существования государства и способствовала тому, что при возникновении социальных проблем царь становился на сторону этой небольшой прослойки населения против широких народных масс. Кроме того, наделение крепостных гражданскими правами могло раздразнить их аппетиты, и, если бы крестьяне перестали рассматривать свое бесправное положение как нормальный порядок вещей, вся система крепостничества могла рухнуть. Было крайне необходимо, чтобы в деревне царило спокойствие. Все, что грозило его нарушить, – реформаторские указы императора, отстаивающие свои права крепостные, обращения Наполеона к русскому крестьянству или даже слухи о таких обращениях, – было абсолютно неприемлемо для дворянства.
Было маловероятно, что русские дворяне, поддерживающие крепостной строй и самодержавие, когда-либо смогут примириться с Наполеоном. В их глазах он представал наследником Робеспьера. Как они убедились при установленном Сперанским режиме наполеоновского типа (авторитарное правовое государство, построенное по принципу меритократии), подобный режим давит на них сверху, урезая их привилегии, в то время как снизу маячит угроза крестьянских бунтов. Стремясь не допустить этих неприятностей, они обратились к консервативному национализму, который подчеркивал роль дворянства как носителя национальных традиций и вооруженной опоры государства. В этом смысле ксенофобия представляла собой механизм социальной защиты.
Русское дворянство уверовало в то, что ему предназначено выполнить священный долг: одержать легкую победу над Наполеоном на поле сражения. Эта вера основывалась на длинном списке военных успехов России, традиционном ощущении себя классом воинов и высокомерном презрении к «сброду», верховодившему во Франции после 1789 года. Подстегивало дворян и обостренное чувство собственного и национального достоинства, затуманивавшее их сознание и мешавшее трезво оценить противника, об устрашающей военной мощи которого они не имели представления вследствие провинциальной узости своего мировосприятия. Эти пагубные особенности их менталитета подпитывали друг друга, и в результате испытывать презрение к французам считалось патриотическим долгом, воинственный пыл становился защитой своей чести, а предусмотрительность – трусостью. Правительство со свойственными ему авторитарностью и повышенной секретностью поддерживало эти настроения, препятствуя серьезному обсуждению военной обстановки. Не получая информации, необходимой для разумной оценки событий (как в международной, так и во внутренней политике), публика упивалась иллюзией превосходства собственной нации и верила надуманным теориям заговора, а также слухам об измене российских лидеров и союзников [90].
Когда в 1805 году наконец разразилась война Третьей коалиции, российская публика была настроена очень воинственно. С. П. Жихарев, семнадцатилетний москвич, отсылал свои дневниковые записи двоюродному брату, подробно описывая в них все, что он видел и слышал той осенью. Изданный царем 1 сентября указ о дополнительном наборе в армию, писал Жихарев, всколыхнул волну патриотического энтузиазма в Москве, где антинаполеоновская лихорадка подчас пробуждала в людях слепую гордыню. Так, некий разгневанный помещик кричал в Английском клубе: «Подавай мне этого мошенника Буонапартия! Я его на веревке в клуб приведу». Один из гостей клуба поинтересовался, не является ли этот человек знаменитым генералом, и получил в ответ стихотворный экспромт:
Он месяц в гвардии служил
И сорок лет в отставке жил,
Курил табак, Кормил собак,
Крестьян сам сек —
И вот он в чем провел свой век!
[Жихарев 1989, 1: 131].
Молодому Жихареву казалось, что публика слишком легкомысленно относится к войне. Шовинистический угар сменялся тревогой за жизнь сыновей. Люди хотели знать новости, но не имели ясной картины происходящего по целому ряду причин: общей политики секретности, отсутствия развитой прессы, существования цензуры и перлюстрации почты полицией, а также удаленности Москвы от театра военных действий. За отсутствием точных сведений город был наводнен самыми дикими слухами, на сцену выходили те, кто владел информацией. Князь Одоевский даже снял квартиру напротив почтамта, чтобы первым узнавать новости, а фешенебельный Английский клуб, переполненный слухами, напоминал «настоящий воскресный базар» [Жихарев 1989, 1: 144] [91].
Так продолжалось всю осень, вплоть до 20 ноября (2 декабря по европейскому стилю), когда русские и австрийские войска потерпели тяжелое поражение под Аустерлицем. Шишков писал впоследствии с гневным сарказмом:
Возгоревшаяся с Франциею война воспламенила всех молодых людей гордостью и самонадеянием. Поскакали все, и сам государь, на поле сражения: боялись, что французы не дождутся их и уйдут; но, по несчастию, они не ушли и доказали им, что в подобных случаях лучше терпеливая опытность, нежели неопытная опрометчивость [Шишков 1870,1:95].
Прошли недели, прежде чем выяснились подробности сражения. Влиятельный «Вестник Европы» даже в январе 1806 года все еще задавался вопросом о его исходе. Когда исход стал известен, он ужаснул всех. Де Местр в Петербурге, а Жихарев в Москве отмечали, насколько русские люди не привыкли к военным поражениям. Вигель, вернувшийся в начале 1806 года из Китая после длительной дипломатической миссии, был поражен тем, как упало доверие публики к власти и к императору лично. Особенно значительное недовольство ощущалось в Москве – Петербург в этот кризисный момент оставался лояльным царю. Как вспоминал друг Александра I Новосильцев, по возвращении императора в Петербург он был встречен с патриотическим энтузиазмом, но отношение к нему заметно ухудшилось, когда стали известны его действия во время военной кампании. Шведский посол граф Курт фон Стедингк докладывал в апреле в письме своему королю, что поспешное возвращение Александра после Аустерлица в конце концов усугубило его вину в глазах населения. Армия ропщет, писал он, но особенно громкое ворчание доносится из Москвы. Только недавно город приветствовал генерала Багратиона как героя, но при этом «ни слова похвалы не было произнесено в адрес императора» [Stedingk 1844–1847,2:150–151]. Это противоречит показаниям Жихарева, присутствовавшего на торжественном обеде в честь Багратиона, устроенном в Английском клубе 3 марта